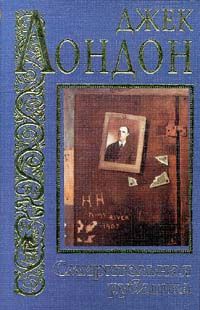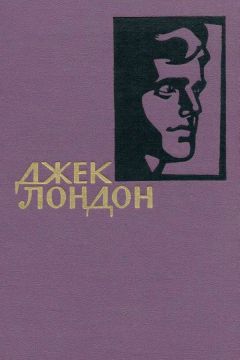Начальник тюрьмы Азертон был крупным и очень сильным мужчиной. Его руки опустились на мои плечи. Я почувствовал себя соломинкой в сравнении с ним. Он приподнял меня и бросил в кресло.
— Теперь, Стэндинг, — сказал он, пока я вздыхал и молча проглатывал свою боль, — расскажи мне все. Выложи все, что знаешь, это будет для тебя лучше.
— Я ничего не знаю о том, что случилось, — начал я.
Я не мог продолжать: он, рыча, снова бросился на меня, поднял в воздух и швырнул в кресло.
— Без глупостей, Стэндинг, — предупредил он. — Скажи честно, где динамит?
— Я ничего не знаю ни о каком динамите, — возразил я.
Меня еще раз встряхнули и бросили в кресло.
Я вытерпел множество пыток, но когда я думаю о них в тиши этих моих последних дней, я готов признать, что ни одна из них не сравнится с тем, что я испытал в этом кресле. Под ударами моего тела оно постепенно превращалось в обломки. Принесли другое, и спустя некоторое время его постигла та же участь.
Приносили все новые кресла, и тянулся бесконечный допрос о динамите.
Когда Азертон устал, его сменил капитан Джеми, а затем надзиратель Моногэн занял место капитана Джеми. И все время меня спрашивали только одно: «Где динамит?» А его вовсе не было. Так что в конце концов я готов был продать свою бессмертную душу за несколько фунтов динамита, чтобы иметь возможность указать, где я его спрятал.
Не знаю, сколько кресел сломалось под ударами моего тела. Бессчетное количество раз я терял сознание, и в конце концов все слилось в один кошмар. Меня наполовину несли, наполовину тащили, чтобы ввергнуть снова во мрак. Придя в себя, я обнаружил в своем карцере доносчика. То был бледнолицый маленький человек, заключенный с небольшим сроком, готовый на все, лишь бы скорее выйти на волю. Как только я узнал его, я подошел к решетке и крикнул на весь коридор:
— Ко мне посадили стукача, ребята. Это Игнатиус Ирвин. Держите язык за зубами!
Раздавшийся взрыв проклятий мог бы поколебать мужество и более смелого человека, чем Игнатиус Ирвин. Он был жалок в своем страхе, потому что вокруг него, рыча как звери, истерзанные пожизненно заключенные грозили ему ужасной расправой, которую обязательно учинят над ним, когда встретят его через несколько лет.
Если бы у нас были тайны, то присутствие доносчика в карцере сразу заставило бы всех замолчать. Но так как все поклялись говорить только правду, откровенные разговоры в присутствии Игнатиуса Ирвина не прекратились. Большое недоумение вызывал у заключенных динамит, существование которого было для них покрыто таким же мраком неизвестности, как и для меня. Они обратились ко мне. Они умоляли меня, если я знаю что-нибудь о динамите, признаться и спасти их от дальнейших истязаний. И я сказал им только правду: что я ничего не знаю о динамите.
То, что рассказал мне доносчик до того, как его убрали из моей камеры, открыло мне, как серьезно обстоят дела. Конечно, я передал его слова дальше. Тысячи заключенных оставались в своих камерах, и похоже было на то, что ни в одной из множества тюремных мастерских не примутся за работу, пока не будет обнаружено местонахождение динамита, якобы кем-то спрятанного в тюрьме.
Расследование продолжалось. То и дело кого-то из заключенных выводили, затем водворяли обратно. Они рассказывали, что начальник тюрьмы Азертон и капитан Джеми, измученные своими трудами, сменяли друг друга каждые два часа. Пока один спал, другой допрашивал. И они спали не раздеваясь в той самой комнате, где одного за другим избивали сильных мужчин.
И с каждым часом в темноте одиночек рос наш исступленный ужас. О, поверьте моему опыту, казнь — это пустяки в сравнении с истязаниями, которым подвергают живых людей, не давая им умереть. Я тоже страдал вместе с ними от боли и жажды, но мои терзания усиливались оттого, что я был неравнодушен к страданиям других. Я уже два года был неисправимым, мои нервы закалились. Ужасно видеть сильного человека сломленным. Разом со мной были сломлены сорок сильных мужчин. Отовсюду неслись мольбы о воде, и тюрьма стала похожа на сумасшедший дом из-за криков, рыданий и бормотания исступленно бредящих людей.
Понимаете вы это? Наша правда, та истинная правда, которую мы говорили на допросах, стала нашим проклятием. Если сорок человек единодушно повторяют одно и то же, то, по мнению Азертона и капитана Джеми, это значит, что их показания представляют собой заученную наизусть ложь, которую каждый из сорока твердит как попугай.
Положение тюремных властей, пожалуй, было более отчаянным, чем наше. Как я впоследствии узнал, было созвано по телеграфу совещание управления тюрьмы, и две роты государственной милиции были спешно направлены к ней.
Стояла зима, а даже в Калифорнии мороз зимой бывает очень сильным. В карцерах не полагались одеяла. Знайте, что очень холодно лежать избитым телом на холодном камне. В конце концов им пришлось дать нам воду. С насмешками и проклятиями тюремщики схватили пожарные рукава и направили сильные потоки воды в каждый карцер, хлеща наши избитые тела их мощью. И так продолжалось до тех пор, пока мы не оказались по колено в воде, о которой мы только что бредили, а теперь мечтали, чтобы этот поток иссяк.
Я умолчу о том, что случилось в карцерах, и только скажу, что ни один из сорока пожизненно заключенных не остался прежним человеком. К Луиджи Полаццо никогда больше не вернулся рассудок. Длинный Билл Ходж тоже медленно терял разум и через год перебрался на житье в отделение для умалишенных. И многие другие тоже последовали за Полаццо и Ходжем; те же, чье физическое здоровье было подорвано, пали жертвой тюремного туберкулеза. Целых двадцать пять процентов из этих сорока человек умерли в течение последующих шести лет.
После пятилетнего одиночного заключения, когда меня для судебного разбирательства перевели из Сен-Квентина, я встретил Брамселя Джека. Я плохо видел его, потому что, как летучая мышь, был ослеплен солнечным светом после пяти лет темноты; но я видел достаточно, чтобы у меня защемило сердце. Я встретил его в тюремном дворе. Его волосы побелели, он преждевременно состарился, его грудь ввалилась, щеки впали, руки тряслись, он шатался на ходу. На его глазах появились слезы, когда он узнал меня, потому что я тоже был жалким обломком бывшего человека. Я весил всего восемьдесят семь фунтов. Мои полуседые волосы за пять лет отросли, как и борода и усы. И я тоже шатался на ходу, так что тюремщики помогали мне пройти этот залитый солнцем кусочек тюремного двора. И я, и Брамсель Джек, мы смотрели и с трудом узнавали друг друга в этих обломках.
Люди, подобные ему, пользуются привилегиями даже в тюрьме, так что он решился нарушить правила и заговорил со мной хриплым, дрожащим голосом:
— Ты порядочный человек, Стэндинг, ты никого не выдал.
— Но я ничего не знал, Джек, — зашептал я, ибо за пять лет молчания мой голос почти совсем пропал. — Я вообще не думаю, что этот динамит существовал.
— Это правда, — прохрипел он, по-детски кивая головой. — Настаивай на этом. Пусть никто об этом не знает. Ты порядочный парень. Я преклоняюсь перед тобой, Стэндинг. Ты никого не выдал.
И тюремщики повели меня дальше. Я в последний раз видел Брамселя Джека. Было очевидно, что и он также стал верить в миф о динамите.
Дважды водили меня к тюремному начальству. Мне попеременно то угрожали, то умасливали. Мне предоставили на выбор лишь две возможности. Если я открою, где динамит, наказание будет легким — месяц в карцере, а потом меня назначат заведующим тюремной библиотекой. Если я не перестану упорствовать и не выдам местонахождение динамита, меня запрут в одиночку на весь оставшийся срок. Для меня, пожизненно заключенного, это было равносильно одиночному заключению на всю жизнь.
О нет!.. Калифорния — страна цивилизованная. Ничего подобного нет в сводах законов. Это жестокое и небывалое наказание, и ни одно современное государство не имеет подобного закона. Однако в истории Калифорнии я являюсь третьим человеком, приговоренным к пожизненному одиночному заключению. Двое других — это Джек Оппенхеймер и Эд Моррелл. Я скоро расскажу вам о них, потому что с ними я гнил целые годы в кельях молчания.
И вот еще что. Меня скоро повесят, но не за убийство профессора Хаскелла. За это я получил пожизненное заключение. Вздернут меня за то, что я напал на надзирателя, нарушив не требование тюремной дисциплины, а закон, который можно найти в уголовном кодексе.
Возможно, я разбил ему нос. Я не видел, как текла кровь, но свидетели нашлись. Его звали Серстон, то был надзиратель в Сен-Квентине. Он весил 170 фунтов и отличался отменным здоровьем. Я весил около девяноста фунтов и был слеп, как летучая мышь; я так долго находился в крохотной камере, что терялся при виде большого открытого пространства. В самом деле, у меня определенно развивалась агорафобия; я убедился в этом в тот день, когда выбежал из одиночки и ударил надзирателя Серстона в нос.