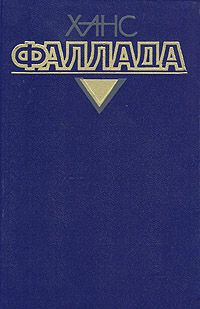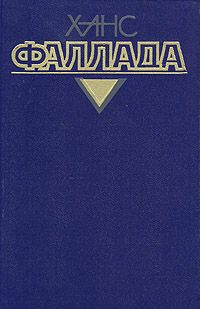Как она могла, никогда не зная, что ждет ее завтра, найти хоть одну минуту счастья в своей жизни бок о бок с портупей-юнкером в отставке Вольфгангом Пагелем, который вот уже добрый год умудрялся, при самом мизерном "оборотном капитале", из вечера в вечер добывать средства к их существованию за игорным столом? Из вечера в вечер, в одиннадцать часов, он целовал ее и говорил: "Ну, до скорого, маленькая!" — и уходил, а она только с улыбкой кивала ему головой. Она не смела сказать ни слова, — ведь чуть не каждое слово могло навлечь несчастье.
Первое время после того как она догадалась, что эти постоянные ночные походы означают не «баловство», а «работу» — то, что давало средства к жизни им обоим, она просиживала иногда до трех, до четырех… чтобы видеть потом, какой он придет: бледный, весь дергается, виски запали, волосы влажны, глаза сверкают. Она выслушивала его сбивчивые отчеты торжествующие, когда игра была удачной, полные отчаянья, когда он проиграется. Молча выслушивала она его брань по адресу той или другой женщины, забравшей его выигрыш, или недоуменные вопросы, почему именно в этот вечер «черное» вышло семнадцать раз подряд и отбросило их, уже стоявших на пороге богатства, обратно в полную нищету…
Она ничего не понимала в игре, в его игре, в рулетке, сколько бы он ей ни растолковывал (он наотрез отказался хоть раз взять ее с собою "туда"). Но она прекрасно понимала, что это был налог на их совместную жизнь, Вольф потому лишь и мог быть с нею таким приветливым, таким беззаботным, таким спокойным, что в те часы за игорным столом давал выход всей своей энергии, своему отчаянию в этой растраченной впустую, бесцельной и все-таки неповторимой жизни.
О, она понимала гораздо больше! Она понимала, что он сам себя обманывает или по меньшей мере обманывает себя тогда, когда снова и снова страстно утверждает, что он не игрок…
— Ну, скажи сама, что другое, лучшее, мог бы я делать? Стать бухгалтером, вписывать цифры в книгу, чтобы к тридцатому числу получить жалованье, которое нас не спасет от голода? Продавать ботинки, статейки пописывать, сделаться шофером? Петер, вот в чем секрет: сократите потребности, и у вас будет время для жизни. Три, четыре, ах, иногда полчаса за рулеткой, и мы можем жить целую неделю, целый месяц! Я — игрок? Да ведь это же собачий труд, лучше таскать кирпичи, чем стоять там и выжидать и не давать себе увлечься, когда манит счастье. Я холоден как лед и очень расчетлив, ты знаешь, меня там называют Барсом аль-пари [аль-пари (то есть "на равных") — термин игры в рулетку: при игре «аль-пари» ставки делаются на «черное» и «красное», на «чет» и «нечет» и т. д., когда шансы выиграть и проиграть почти равны, а выигрыш равен ставке]. Они меня ненавидят, — при моем появлении у них вытягиваются лица. Потому что я не игрок, потому что они знают, что с меня ничего не сорвешь, потому что я каждый день снимаю свой маленький выигрыш и, получив его, тут же заканчиваю, никогда не поддаюсь соблазну продолжать игру…
И с очаровательной непоследовательностью, совершенно забывая, что сам только что говорил, добавляет:
— Погоди… дай мне только раз сорвать большой куш! Настоящую сумму, такую, которая чего-то стоит! Тогда ты увидишь, как мы с тобой заживем! Тогда ты увидишь, что я не игрок! Больше они меня к себе не заманят! К чему мне? Это же подлейшее скотство, какое только есть на свете, — разве станет человек добровольно в этом погрязать, если он не игрок?!
Между тем она видела, каким он по ночам приходит домой: виски запали, волосы влажные, глаза блестят.
— Сегодня мне почти удалось, Петер. Я был на пороге! — провозглашает он.
Но карманы его пусты. Потом он тащил в ломбард все, что у них было, оставлял только то, что на нем (ей в такие дни приходилось соблюдать постельный режим), уходил, имея в кармане ровно столько денег, чтоб можно было купить допустимый минимум фишек. Возвращался он с очень небольшим выигрышем, а иногда, очень редко, с туго набитыми карманами. Временами казалось, что пришел конец, и тогда, надо сознаться, он неизменно приносил деньги — много ли, мало ли, но приносил.
У него была какая-то своя «система» относительно движения шарика рулетки, система бессистемности, построенная на том, что шарик часто делает не то, что он, казалось бы, должен сделать. Он сто раз объяснял ей эту систему, но, не видав никогда рулетки, она не могла по его рассказам составить себе правильную картину… Впрочем, она сомневалась, всегда ли он придерживался своей системы.
Как бы там ни было, а на хлеб он все-таки добывал. Она давно научилась в расчете на это спокойно ложиться спать, не дожидаться его возвращения. И даже лучше было притвориться спящей, когда случайно к его приходу она не спала. Потому что, если он, вернувшись домой после игры, еще разгоряченный, затевал разговор, то уже всю ночь не приходилось спать.
— И как ты только терпишь, девочка, — говаривала, покачивая головой, Туманша, мадам Горшок. — Что ни ночь уходит из дому и что ни ночь забирает с собой все ваши денежки! А ведь там, верно, так и кишит шлюхами благородного звания! Я бы своего не пустила!
— Но ведь вы пускаете вашего на стройку, госпожа Туман! Не может разве обрушиться лестница или подломиться доска? А шлюх везде хватает.
— Не дай бог, как можно говорить такое, да еще когда мой Биллем, как нарочно, работает на пятом этаже! Я и то не знаю покоя от страха! Но все же тут большая разница, девочка! Строить нужно, а играть совсем даже не нужно.
— Но если у него такая потребность, госпожа Туман!
— Потребность, потребность! Вечно я слышу о потребностях! Мой тоже рассказывает мне, что ему и то требуется и другое. И в скат поиграть, и сигары, и крепкое пиво, а там, поди, и молоденькие девчонки (только уж про это он мне не рассказывает!). Но я ему говорю: что тебе требуется, так это ежовые рукавицы, да по пятницам передавать мне из рук в руки денежки из строительной конторы. Вот это требуется. Ты, девочка, слишком добра. Но доброта у тебя от слабости, а я, как посмотрю на тебя утречком, когда я вам кофе подаю, и вижу, как ты перед ним закатываешь глазки, а он и не замечает — уж я-то знаю, добром это не кончится… Игра вместо работы — в первый раз слышу! Играть — не значит работать, и работать — не значит играть. Если ты в самом деле хочешь ему добра, отбери у него все деньги и отправь вместе с Виллемом на стройку. Камни таскать небось сумеет.
— Боже мой, госпожа Туман, вы заговорили совсем как его мать! Она тоже уверяла, что я слишком добра и только потакаю его дурным наклонностям. Она даже влепила мне за это пощечину.
— Пощечины давать опять-таки не дело! Невестка ты ей, что ли? Нет, ты же на это пошла, можно сказать, для собственного удовольствия, и когда надоест эта волынка, ты уйдешь, и поминай как звали. Нет, пощечина — это даже и не положено, за пощечину можно и в суд подать!
— Было совсем не больно, фрау Туман. У его матери… такие пальчики не то что у моей. Да и вообще…
4. РОТМИСТР НАНИМАЕТ ЖНЕЦОВ
Деревянный барьер делит помещение Берлинской конторы по найму жнецов на две половины, на две очень неравные половины. Передняя часть, где сейчас стоит ротмистр фон Праквиц, совсем мала, да еще дверь на улицу открывается внутрь. Праквицу тут негде повернуться.
В задней, большей, половине стоит толстенький чернявый человечек ротмистр не может точно сказать, кажется ли человечек таким чернявым из-за темной шапки волос, или от своей нечистоплотности? Чернявый толстяк, в темном суконном костюме, сердито, отчаянно жестикулируя, говорит с тремя мужчинами в костюмах из Манчестера, в серых шляпах и с сигарами в углах рта. Те отвечают так же сердито, и хоть говорят они не громко, со стороны кажется, что они кричат.
Ротмистр не понимает ни слова — они, конечно, говорят по-польски. Хотя арендатор поместья Нейлоэ каждый год нанимает до полсотни поляков, он ради этого отнюдь не счел нужным выучить польский язык и знает только два-три слова команды.
— Не спорю, — говорил он, бывало, Эве, своей жене, с грехом пополам объяснявшейся по-польски, — не спорю, мне даже из практических соображений следовало бы выучиться. И все-таки я не стану ни сегодня, ни завтра, ни через год учиться этому языку. Нет и нет! Мы тут слишком близко к границе. Учить польский язык — ни за что!
— Но люди говорят тебе в лицо самые наглые вещи, Ахим!
— Ну и что же?.. Учиться по-польски, чтобы лучше понимать их дерзости! И не подумаю!
Итак, о чем шел разговор за барьером у тех четверых, ротмистр не понимал, да и не хотел понимать. Но он был не из породы терпеливо ожидающих: делать, так делать! Он хочет сегодня же днем вернуться в Нейлоэ с пятьюдесятью, а то и с шестьюдесятью жнецами; созревший хлеб, небывалый урожай ждет на корню, и солнце светит во всю мочь — ротмистру так и чудится шорох осыпающихся зерен.
— Эй! Хозяева! Клиент пришел! — крикнул ротмистр.