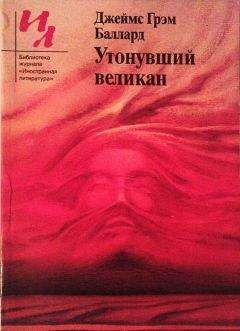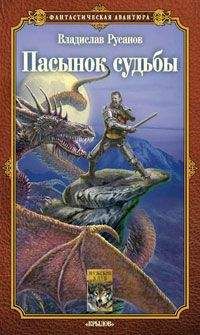Началась коллективизация, Трофима вызвали в сельсовет: «Подпиши заявление, что ты батрачил на дядю. Эксплуататор, надо раскулачить». А у дяди шестеро детей, старший, Петька, — одногодок Трофима, жалко все же.
— Ах, жалко! А они тебя жалели, сколько лет ты на них хрипт ломал? Сынок-то в сукнах ходит, на тебе рубаха чужая. На рубаху не заработал…
Верно, не возразишь — подписал.
Раскрыли амбары и клетушки, вывели скот, вытряхнули сундуки. Дядя, сумрачный бородач, его жена, баба сварливая, высохшая, от жадности и работы, с котомками за спиной, с выводками детишек, под доглядом милиционера двинулись со двора на станцию.
— Столкнемся, Трошка, на кривой дорожке! Выкормили змееныша за пазухой!
А Петька, одногодок Трофима, плакал, как девчонка.
Ни с кем из них не столкнулся. Из тех мест, куда их угнали, кривые дорожки вели к богу в рай.
Дядино добро — полушубки, сапоги, поддевки суконные — распределяли по беднякам. Причиталось и Трофиму — отказался, не взял ни нитки. Пусть знают: не ради корысти заявление подписывал, а потому, что осознал.
Жить, однако, пришлось в дядином доме. Огромный пятистенок — пустой и гулкий, по ночам мыши скребутся, в трубе завывает. А утром выйдешь во двор — все двери нараспашку. Хлев, амбары, баньку, поветь продувает ветром.
Решил жениться. Нюрке Петуховой, дочке нелядащего Сеньки, по-уличному — Квас, не приходилось выбирать. Из себя вроде ничего — лицо приятное, в черных глазах какая-то птичья робость, парни бы не прочь побаловать, но кому охота идти в зятья к деревенскому скомороху Сеньке Квасу.
Этот Квас, морщинистое лицо, мышиные глазки, все богатство — зипун из заплат, штиблеты с «березовым скрипом», потребовал:
— Свадьбу гони хочь хрестьянскую, хочь пролетарскую — была бы выпивка.
А на свадьбе, после первого стакана, словно обухом по башке:
— Ты мной не брезгуй, я сам тобой брезгую.
— С чего ты?
— Неверный человек — родню за пятак продашь. Всей деревне удовольствие, когда веселый тесть ходил по улице и пел:
Протекала речка эдак,
Протекала речка так.
Не задешево торгую -
С головы всего пятак.
Сельсоветское начальство метило бывшего батрака Трофима Русанова в колхозное руководство. А Сенька Квас выплясывал:
Антиресная заботушка
Мне голову кружит:
Кабы с зятюшкой колхозушко
Напару поделить.
И ничем его не возьмешь — ни добрым словом, ни острасткой. Побьешь, а он, как шелудивая дворняга, отряхнется, злей станет лаять.
Трофим пошел в район с жалобой — житья нет. Там рассудили — вражеская агитация. Исчез непутевый деревенский скоморох.
Жена Трофима не называла раньше отца иначе — «шут гороховый», а тут перестала глядеть в глаза. Нутром чуял — живет через силу, ушла бы, да куда: брюхата на четвертом месяце, с таким прикладом никто не подберет. Пробовал ей доказать, что он-де правильный человек, за правильность-то его и не любят, а у нее в ответ одна унылая песня:
— Уедем скорей отсюда.
И где бы он ни жил, кем бы ни работал — всюду испытывал вражду к себе. Вражда стала привычной, она не замечалась. Ежели приглашали к столу или говорили доброе слово — настораживался: боятся, сукины дети, или целятся окрутить вокруг пальца. Дерьмо люди, нельзя верить.
Быть может, впервые ему доверился человек.
Человек?.. Еще не человек, но доверие-то человеческое. Вот я — можешь отмахнуться, тебе ничего не будет, никто не узнает, люди не догадываются о моем появлении на свет. Отмахнись — это так просто сделать! — будешь свободен, быстрей вырвешься из леса, домой, в тепло, в уют, к отдыху. Отмахнись, правильный человек!..
Трофим не привык раздумывать, и сейчас он не думал, а просто чувствовал беззащитное доверие. И ему, жившему во вражде, оно было ново, необычно, вызывало щемящую благодарность. Разворачивая одеяльце, он видел разъеденное нечистотами, обваренно-красное тельце и сам испытывал страдание. Он совал тряпичную соску и снова страдал оттого, что не материнское молоко, а грубая жвачка — опасная пища, можно своей рукой отравить младенца. Лежа между двумя полыхающими кострами, он прижимался тесней к ребенку, старался укрыть его собой от холода, от жара трещащих дров, от нездоровой ночной сырости. Его собственная жизнь в эти минуты сразу стала как-то сложнее и ярче. Только б донести до людей, там-то уж спасут.
Нескончаема ночь поздней осени. Порой не верится, что настанет утро. Кажется, так и завязнет темнота навсегда, час к часу не сложатся в сутки, спутается время…
Трофим подымался, подкидывал дрова в огонь, торопливо ложился, прижимал к себе нагретый сверток, забывался чутким, собачьим сном.
Выбрался на болотце, подступающее к знакомой лесной речке. За ней дыбится на косогоре сосновый лес. Там ноги не будут увязать в болотной жиже, километров пять пробежишь и не заметишь. К вечеру наверняка доберется до Анисима: «Шевелись, старый сверчок!»
Теперь у Трофима воспоминание об Анисиме уже не вызывало злобы. Не откажется лесник, как-никак вместе с женой станет ухаживать за девчонкой, спасать ее. За помощью идешь к нему, а от кого ждешь помощи, того за врага не считаешь.
Падал ленивый лохмато-крупный снег и таял сразу на мокрой земле. Небо налилось устрашающей густотой, воздух сумеречно сер, хотя до вечера еще далеко.
Трофим, прижимая к себе ребенка, рассчитывая каждый шаг, боясь провалиться в студенистую трясину у берега, пробрался к самой воде и застыл пришибленный. Он отлично помнил это место: здесь лежали два бревна — их нет. Подмыло ли берега и концы бревен обрушились, просто ли после стаявшего снега поднялась вода, так или иначе — перехода нет.
Вода настолько черна, что кажется, сунь руку — и она увязнет, как в смоле. На эту черную воду ласково, то там, то тут, спускались невесомые хлопья снега, едва коснувшись, исчезали. Вода спокойна, течения нет. От берега до берега каких-нибудь шагов восемь-десять.
А на противоположном берегу, подпирая сумрачное небо, натянуто стоят стволы сосен. Не перепрыгнешь к ним…
Восемь шагов… Такие стоячие лесные речки «нутристы», берега их обрывисты; на дне, затянутые илом, лежат давно затонувшие стволы деревьев, между ними ямы и провалы — сорвись, и скроет с головой. Вброд, да еще с ребенком на руках, — нет, опасно.
И все-таки Трофим решил прощупать. Наломал лапника, пристроил на нем ребенка, подобрал вывалившуюся березку — попрямей и потоньше, — двинулся вдоль берега, промеряя через каждые пять шагов глубину…
По грудь у самого берега — значит, на середине может скрыть с головой, по пояс, снова по грудь… Но вот конец березового кола сразу уперся в дно — по колено, даже мельче, а у того берега кто знает… Ежели и решаться, то тут. Прежде чем соваться с ребенком, надо проверить. Скидывай одежду — не дай бог намочить ватные штаны и телогрейку, за сутки не просушишь у костра; нагишом полезай в ледяную воду, а сверху тебя будет посыпать снежком…
И Трофим сплюнул:
— Да что я, на смерть присужденный!
Он решительно отбросил кол, пошел обратно. Нечего рассчитывать на брод, придется двинуться вверх по реке, пока не наткнешься на какую-нибудь оказию. Случается же, что упадет старое дерево поперек реки — вот тебе и мост, шагай посуху.
Перед тем как двинуться в путь, присел на лапнике, взял младенца на колени. Девочка не брала соску. Можно прошагать не один день, но так и не перебраться через эту дикую, сонную речушку. Сколько еще протянет девчонка? Сегодня-то они до Анисима не доберутся… Трофим поднялся.
По болотистой долинке кружит лениво черная река, брось щепку в ее воду — не тронется с места. Кружит река, кое-где она разливается в просторные бочаги, кое-где ее берега сближаются настолько близко, что нетрудно перескочить с разгону. Но с ребенком не перескочишь, да и сами берега рыхлые, топкие — не разбежишься, не оттолкнешься.
Кружит река, вместе с ней кружит и Трофим — щетинистый, грязный человек, с ружьем, с мешком, с младенцем и ватном одеяльце на руках. Кружит река, уводит Трофима в глубь леса. И начинает уже смеркаться, пора думать о ночлеге.
Утром следующего дня он наткнулся на завал. Не одно, а пять громадных деревьев обрушились в реку, перегородили ее. Пять сухих стволов друг на друге, крест-накрест, и целая роща костистых ветвей, крепко сцепленных, туго переплетенных, закрывающих путь через реку.
Трофим снял ружье с плеча — оно больше всего цепляется, взял за ствол, размахнувшись, перебросил его через воду. Ружье мягко шлепнулось в мшистый берег. Мешок перебрасывать побоялся — не долетит, упадет в воду. Держа одной рукой неуклюжий сверток из ватного одеяла, другой хватаясь за сучья, полез по завалу…
Если б обе руки были свободны, одна минута — и он на том берегу. Сейчас, обламывая тонкие ветви, цепляясь за толстые, рискованно повисая над водой, продирался вершок за вершком. На самой середине зацепился мешок. Трофим дернул, припомнил бога и мать, но делать нечего — пошевеливая плечами, стал освобождаться от лямок, осторожно, медлительно, боясь потерять равновесие, уронить ребенка. Он удержался сам, удержал и младенца, а мешок подхватить не сумел. Тот шлепнулся в воду и поплыл.