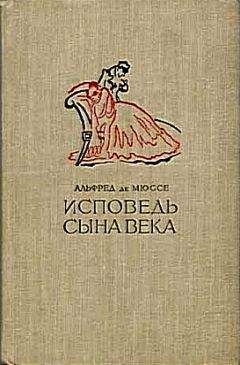С жадным любопытством смотрел я на этого человека, который, бывало, рассуждал при мне о дружбе, как герой древности, а вчера ласкал при мне мою возлюбленную. Впервые в жизни я видел чудовище; я окидывал его с ног до головы блуждающим взглядом, желая рассмотреть хорошенько. Мне казалось, что я вижу его впервые, — а ведь я знал его с десятилетнего возраста и жил с ним изо дня в день в самой тесной, самой искренней дружбе. Я воспользуюсь здесь одним сравнением.
Есть известная всем испанская пьеса, в которой каменная статуя, посланная небесным правосудием, приходит ужинать к распутнику. Распутник сохраняет внешнее спокойствие и старается казаться невозмутимым, но статуя требует, чтобы он подал ей руку, и лишь только этот человек подает ей руку, его пронизывает смертельный холод, он падает и бьется в судорогах.
И вот всякий раз, когда мне случается долго питать полное доверие либо к другу, либо к любовнице и вдруг обнаружить, что я обманут, я не могу иначе передать то действие, какое производит на меня это открытие, как только сравнив его с рукопожатием статуи. Да, я поистине ощутил прикосновение мрамора, смертельный холод действительности оледенил меня своим поцелуем, — то было прикосновение каменного человека. Увы, ужасный гость не раз стучался ко мне в дверь, не раз мы ужинали вместе.
Между тем, покончив со всеми приготовлениями, мы с моим противником стали на места и начали медленно сходиться. Он выстрелил первый и ранил меня в правую руку. Я тотчас переложил пистолет в левую, но уже не мог поднять его, силы мне изменили, и я упал на одно колено.
Сильно побледнев, с тревогою в лице, враг мой поспешно кинулся вперед. Мои секунданты, видя, что я ранен, подбежали ко мне одновременно с ним, но он отстранил их и взял меня за раненую руку. Зубы у него были крепко стиснуты, и он не мог говорить; я видел, что он в смятении. Он терзался самой ужасной мукой, какую только можно испытать. «Иди прочь! — крикнул я ему. — Иди вытри свои руки о простыни госпожи ***». Он задыхался, и я тоже.
Меня посадили в фиакр, где нас поджидал врач. Рана оказалась неопасной — пуля не задела кости, но я был в таком возбужденном состоянии, что невозможно было тотчас же сделать мне перевязку. Когда фиакр тронулся, я увидел у дверцы дрожащую руку, — то мой противник еще раз подошел ко мне. В ответ я только покачал головой. Я был в таком бешенстве, что не смог бы пересилить себя и простить его, хотя и сознавал, что раскаяние его было искренним.
Когда я приехал домой, из раны обильно пошла кровь, и это принесло мне большое облегчение: слабость заставила меня забыть гнев, причинявший мне больше страданий, чем рана. Я с наслаждением лег в постель, и, мне кажется, никогда я не пил ничего более приятного, чем первый поданный мне стакан воды.
После того как я слег, у меня открылась лихорадка. Вот когда слезы полились у меня из глаз. Мне казалось непостижимым не то, что моя любовница разлюбила меня, а то, что она меня обманула. Я не понимал, каким образом женщина, не вынуждаемая ни долгом, ни корыстью, может лгать мужчине, если она полюбила другого. Двадцать раз в день я спрашивал Деженэ, как это возможно. «Если бы я был ее мужем, — говорил я, — или платил бы ей, мне это было бы понятно. Но почему, если она меня больше не любит, не сказать мне об этом? Зачем меня обманывать?» Я не понимал, что в любви возможно лгать, я был тогда ребенком, и признаюсь, что и сейчас все еще не понимаю этого. Всякий раз как я влюблялся в какую-нибудь женщину, я говорил ей это, и всякий раз как я охладевал к какой-нибудь женщине, я говорил ей это с той же искренностью, ибо я всегда полагал, что в такого рода вещах наша воля бессильна, а преступна только ложь.
На все мои слова Деженэ отвечал мне: «Это низкая женщина, обещайте мне не видеться с ней больше». Я торжественно поклялся ему в этом. Он, кроме того, посоветовал не писать ей вовсе, даже с тем, чтобы укорять ее, а если она напишет, не отвечать ей. Я обещал ему все это, слегка удивляясь его настойчивости и возмущаясь тем, что он может предполагать обратное.
Однако первое, что я сделал, — как только смог встать и выйти из комнаты, — я поспешил к моей любовнице. Я застал ее в одиночестве: неодетая и непричесанная, она с удрученным лицом сидела на стуле в углу своей комнаты. Вне себя от отчаяния я стал осыпать ее неистовыми упреками. Я кричал на весь дом, и в то же время слезы порой так бурно прерывали мою речь, что я падал на постель, чтобы дать им волю.
— Ах, неверная! Ах, презренная! — плача, твердил я ей. — Ты знаешь, что я от этого умру, тебе это приятно? Что я тебе сделал?
Она кинулась мне на шею, сказала, что была увлечена, обольщена, что мой соперник подпоил ее за этим злосчастным ужином, но что она никогда не была близка с ним, что она на миг забылась, что она совершила проступок, а не преступление, — словом, что она понимает, какое зло она мне причинила, но что, если я не прощу ее, она тоже умрет. Стараясь меня утешить, она истощила все слезы, какие сопровождают искреннее раскаяние, все красноречие, каким обладает горе; она стояла на коленях, бледная, растерянная, платье ее распахнулось, волосы разметались по плечам, никогда еще я не видел ее столь прекрасной, и, хотя я содрогался от отвращения, это зрелище возбуждало во мне самые пылкие желания.
Я ушел разбитый, в глазах у меня мутилось, я с трудом держался на ногах. Я решил никогда больше с ней не видеться, но не прошло и четверти часа, как я вернулся к ее дому. Какая-то отчаянная сила толкала меня туда; у меня было тайное желание еще раз обладать ею, лаская ее великолепное тело, испить до дна все эти горькие слезы, а затем убить ее и себя. Короче говоря, я глубоко презирал и вместе с тем обожал ее; я чувствовал, что ее любовь несет мне гибель, но что жить без этой женщины я не могу. Я вихрем взлетел по лестнице, не обратился ни к кому из слуг, а просто вошел и, зная расположение комнат в доме, распахнул ее дверь.
Я застал ее перед зеркалом, она сидела неподвижно, вся в драгоценностях. Горничная причесывала ее; сама она держала в руке лоскут красного крепа и осторожно проводила им по щекам. Мне показалось, что я вижу сон: я не мог поверить, что это та самая женщина, которую я только что, четверть часа назад, видел изнемогающей от горя и распростертой на полу; я словно окаменел. Услышав, что дверь отворилась, она повернула голову и, улыбаясь, сказала: «Это вы?» Она собиралась ехать на бал и ждала моего соперника, который должен был сопровождать ее. Увидев меня, она сжала губы и нахмурилась.
Желая уйти, я сделал шаг к двери. Я смотрел на ее гладкий надушенный затылок, на котором были заложены косы и сверкал бриллиантовый гребень. Этот затылок, средоточие жизненной силы, был чернее ада; над двумя блестящими косами колыхались серебряные колосья. Молочная белизна ее плеч и шеи делала еще более заметным жесткий и обильный пушок. Была в этой зачесанной кверху гриве какая-то бесстыдная красота, как бы издевавшаяся надо мной в отместку за то смятение, в котором я видел ее за миг перед этим. Я ринулся вперед и наотмашь ударил сжатым кулаком по этому затылку. Моя любовница даже не вскрикнула; она поникла, закрыв яйцо руками, а я кинулся прочь из комнаты.
Когда я вернулся домой, моя лихорадка возобновилась с такой силой, что я был вынужден снова лечь в постель. Рана моя открылась и причиняла мне сильные страдания. Деженэ навестил меня, я рассказал ему все, что произошло. Он выслушал меня, не проронив ни слова, а затем некоторое время прохаживался по комнате, как человек, который находится в нерешительности. Наконец он остановился передо мною и расхохотался.
— Разве это первая ваша любовница? — спросил он.
— Нет, — ответил я, — последняя!
Среди ночи, когда я забылся неспокойным сном, мне показалось, будто я слышу глубокий вздох. Я открыл глаза и увидел мою любовницу. Она стояла возле моей постели, скрестив на груди руки, похожая на призрак. Я решил, что это видение, порожденное моим больным мозгом. Вскочив с постели, я кинулся в противоположный конец комнаты, но она подошла ко мне.
— Это я, — сказала она и, обхватив меня обеими руками, повлекла за собою.
— Чего ты от меня хочешь? — вскричал я. — Отпусти меня! Я в состоянии убить тебя на месте!
— Ну так что ж, убей меня! — сказала она. — Я тебе изменила, я тебе солгала, я низкая и презренная женщина, но я люблю тебя и не могу без тебя жить.
Я посмотрел на нее: как она была хороша! Все ее тело трепетало; глаза, затуманенные любовью, изливали потоки сладострастия; грудь была обнажена, губы горели. Я поднял ее на руки.
— Пусть будет так, — сказал я ей, — но, клянусь тебе перед всевидящим богом, клянусь спасением души моего отца, я убью тебя потом и себя тоже.
Я взял нож, валявшийся на камине, и положил его под подушку.
— Ну полно, Октав, не безумствуй, — сказала она, улыбаясь и целуя меня. — Иди сюда, мой милый. Все эти ужасы могут тебе повредить. У тебя лихорадка. Дай мне этот нож.