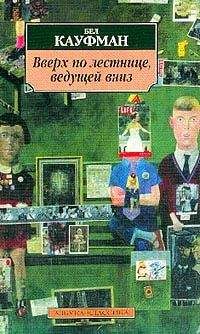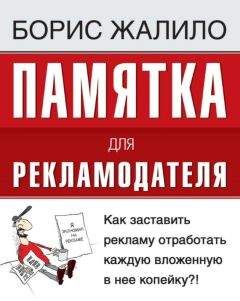– Стало быть, она была так красива? – рассеянно спросил старик, потупив глаза.
– Красива? Да она прекрасна, соблазнительно нежна! Глаза как бархат, руки словно янтарь! Один взгляд ее искушал, как поцелуй, и когда она звала меня, ее голос, как струя вина, пьянил мою душу. Да и почему бы ей не быть столь прекрасной? Разве, по-вашему, она какая-нибудь конторщица или служащая из пожарного ведомства? Да она, скажу я вам, небесное существо, она подобна сказке.
– Да, конечно, – сказал он почти равнодушно.
Его спокойствие наскучило мне; я был опьянен собственным голосом и говорил совершенно серьезно. Я не думал больше о похищенных бумагах, о заговоре в пользу какого-нибудь иностранного государства; маленький, тощий сверток лежал между нами на скамейке, но у меня уже не было никакого желания заглянуть в него и узнать, что в нем содержится. Я был поглощен собственными россказнями, перед глазами у меня проносились изумительные образы, кровь бросилась мне в голову, и я вдохновенно лгал.
А старик как будто собрался уходить. Он привстал и, чтобы не сразу прервать разговор, спросил:
– Должно быть, у этого Хапполати огромное состояние?
Как мог этот слепой, отвратительный старик распоряжаться чужой фамилией, которую я выдумал, так, словно ее можно было прочесть на любой вывеске в городе?
Он ни разу не запнулся, не пропустил ни одного звука; фамилия запечатлелась в его памяти и прочно укоренилась там. Я досадовал и сердился на этого человека, которого ничто не могло смутить или обескуражить.
– Не знаю, – ответил я вдруг. – Положительно не знаю. Но да будет вам известно, что зовут его Юхан Арндт Хапполати, если судить по инициалам.
– Юхан Арндт Хапполати, – повторил старик, несколько озадаченный моей горячностью.
И умолк.
– Вы бы посмотрели на его жену, – продолжал я вне себя. – Это такая толстуха… Вы, может быть, не верите, что она толста?
Нет, этого он, конечно, не мог отрицать; у такого господина вполне могла быть толстая жена…
На каждую мою выходку старик отвечал кротко и тихо, взвешивал слова, точно боялся сказать лишнее и рассердить меня.
– Что за черт, вы, верно, думаете, что я морочу вам голову? – вскричал я вне себя. – Вы, верно, думаете, что господина по фамилии Хапполати и на свете нет? Первый раз в жизни вижу такого упрямого и противного старика! Какая муха вас укусила? Вы еще, чего доброго, приняли меня за нищего, который надел праздничное платье, а у самого даже сигаретки нет? Я не привык к такому обращению, смею вас заверить, и, ей-же-богу, ни от кого этого не стерплю, так и знайте!
Старик тем временем встал. Он стоял, разинув рот, и молча слушал мою тираду, потом схватил свой сверток со скамейки и пошел, почти побежал по дорожке мелким старческим шагом.
А я все сидел и смотрел, как он удаляется и спина его горбится все сильней. Не знаю, откуда взялось это впечатление, но мне показалось, что я никогда еще не видел такой постыдной, такой ничтожной спины, и мне было ничуть не совестно, что я обругал его напоследок…
Уже вечерело, солнце садилось, тихонько шелестела листва деревьев, и няньки, сидевшие у загородки, за которой выступали канатоходцы, собирались везти своих младенцев домой. Я был спокоен и невозмутим. Мое недавнее волнение мало-помалу улеглось, я ослабел, почувствовал вялость, мне захотелось спать; и хотя в тот день я съел слишком много хлеба, последствия этого уже почти не чувствовались. В наилучшем расположении духа я откинулся на спинку скамьи и закрыл глаза; спать хотелось все сильнее, я клевал носом и совсем уж было уснул, но тут сторож положил мне руку на плечо и сказал:
– Здесь спать нельзя.
– Да, конечно, – сказал я и тотчас же поднялся.
И тут же положение мое вновь представилось мне совершенно безнадежным. Нужно было что-то сделать, что-то придумать! Мне не удалось найти места; рекомендации, которые я представлял, были давнишние и под ними стояли подписи никому не известных людей, так что на них надеяться не приходилось; к тому же я столько раз за это лето получал отказы, что потерял всякую уверенность в себе. Но как бы то ни было, я не уплатил в срок за квартиру, и эти деньги должен был где-то добыть. Остальное могло пока оставаться по-прежнему.
Машинально я снова взял в руки карандаш и бумагу, сел и написал в каждом углу листа: «1848». Если б хоть одна вдохновенная мысль овладела мною и подсказала мне слова! Ведь бывали же раньше, да, бывали такие минуты, когда я безо всякого труда мог сочинить длинную и блестящую статью.
Я сижу на скамейке и все вывожу на бумаге: «1848», я пишу это число вдоль и поперек, на тысячу разных ладов, и жду, не осенит ли меня спасительное вдохновение. Какие-то отрывочные мысли роятся в голове, гаснущий день навевает уныние и грусть. Осень уже пришла и начинала сковывать все сном, мухи и насекомые ощутили на себе ее дыхание, в листве деревьев и на земле слышен шорох – это не хочет покориться жизнь, она беспокойна, шумна, неугомонна, она не щадит сил в своей борьбе против умирания. Все ползучие твари снова высовывают желтые головы из мха, шевелят конечностями, ощупывают землю длинными усиками, а потом вдруг падают, опрокидываются кверху лапками. Всякая былинка принимает особенный, неповторимый оттенок под дыханием первых холодов; бледные стебельки тянутся к солнцу, опавшие листья шуршат на земле, словно шелковичные черви. Осенняя пора, карнавал тления; кроваво-красные лепестки роз обрели воспаленный, небывалый отлив.
Я сам чувствовал себя, словно червь, гибнущий среди этого готового погрузиться в спячку мира. Охваченный непостижимым страхом, я вскочил и большими шагами забегал по дорожке. «Нет! – крикнул я и стиснул кулаки. – Так продолжаться не может!» И снова сел, взялся за карандаш, решившись во что бы то ни стало написать статью. Я не имел права опускать руки – счет за квартиру маячил у меня перед глазами.
Медленно, очень медленно мысли мои приходили в порядок. Я сосредоточился и не спеша, взвешивая каждое слово, написал две вводные страницы; они могли стать введением к чему угодно – к путевым заметкам или к политическому обзору, как мне заблагорассудится. Это было превосходное начало и к тому и к другому.
Потом я начал искать подходящее содержание – кого-нибудь или что-нибудь такое, о чем стоило бы написать, и ничего не мог найти. От этого бесполезного усилия мои мысли снова начали путаться, я почувствовал, как мозг отказывается работать, голова все пустеет, пустеет, и вот я снова совсем не чувствую ее на плечах. Эту зияющую пустоту в голове я ощущаю всем своим существом, мне кажется, что весь я пуст с головы до ног.
– Господи, боже ты мой! – воскликнул я в отчаянье, а потом повторил этот возглас еще и еще, не в силах больше вымолвить ни слова.
Ветер шумел в листве, надвигалось ненастье. Я посидел еще немного, задумчиво глядя на бумагу, потом сложил ее и не спеша спрятал в карман. Стало холодно, а у меня теперь не было жилета; я застегнул куртку до самого верха и сунул руки в карманы. Потом встал и пошел.
Хоть бы в этот раз мне посчастливилось, в этот единственный раз! Хозяйка уже дважды смотрела на меня, безмолвно требуя денег, а я вынужден был, смущенно поклонившись, прошмыгнуть мимо. Больше я так не могу; когда она снова бросит на меня такой взгляд, я честно признаюсь во всем и откажусь от квартиры, ведь все равно дальше так нельзя.
Дойдя до выхода из парка, я снова увидел старичка, который убежал, испуганный моей яростью. Таинственный сверток был развернут и лежал подле него на скамейке, – там оказалась всякая снедь, и он закусывал. Я хотел подойти к нему и извиниться за свое поведение, но не мог – так отвратительно он ел; морщинистые старческие пальцы, словно десять отвратительных когтей, впивались в жирные бутерброды, я почувствовал, что меня тошнит, и молча прошел мимо. Он не узнал меня, его глаза скользнули по мне, и ни один мускул в лице не дрогнул.
Я пошел дальше.
По своему обыкновению, я останавливался перед каждой вывешенной газетой, читал объявления о найме на работу и, когда нашел одно подходящее место, очень обрадовался: торговец на Гренланслерет ищет счетовода для двухчасовой вечерней работы; плата по соглашению. Я записал адрес и про себя возблагодарил бога; я соглашусь на самую ничтожную плату, мне хватит и пятидесяти эре, хватит даже сорока; я пойду на какие угодно условия.
Когда я вернулся домой, на моем столе лежала записка от хозяйки, в которой она требовала либо уплатить за комнату вперед, либо освободить ее как можно скорее. Она просила не сердиться, – ей нельзя иначе. С совершенным почтением мадам Гуннерсен.
Я написал письмо торговцу Кристи, Гренланслерет, 31, положил его в конверт и бросил в ящик на углу. Потом я снова поднялся к себе, сел в качалку и задумался, а сумерки меж тем все сгущались. Тяжелая усталость одолевала меня.
Наутро я проснулся рано. Когда я открыл глаза, было еще совсем темно, и лишь через некоторое время я услышал, как внизу пробило пять. Я хотел уснуть снова, но сон не приходил, я не мог даже задремать, тысячи мыслей лезли в голову.