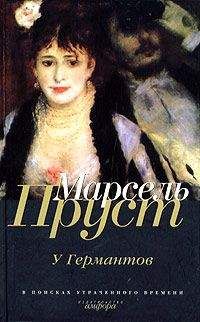Марсель Пруст - Обретенное время
На сайте mybooks.club вы можете бесплатно читать книги онлайн без регистрации, включая Марсель Пруст - Обретенное время. Жанр: Классическая проза издательство -,. Доступна полная версия книги с кратким содержанием для предварительного ознакомления, аннотацией (предисловием), рецензиями от других читателей и их экспертным мнением.
Кроме того, на сайте mybooks.club вы найдете множество новинок, которые стоит прочитать.
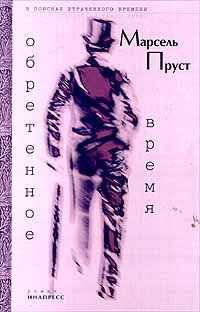
Марсель Пруст - Обретенное время краткое содержание
Обретенное время читать онлайн бесплатно
Я не взял у Жильберты Златоокую девушку, поскольку она эту книгу читала. Но в последний вечер, проведенный в ее доме, она дала мне почитать перед сном другое сочинение, вызвавшее живое, хотя и смешанное чувство, — впрочем, ненадолго. Это был том неизданного дневника Гонкуров[12].
И когда, еще не затушив свечу, я прочитал страницы, приведенные ниже, непригодность к литературе, о чем я догадывался уже на стороне Германтов, в чем уверился в этот приезд, вечером предотъездной бессонницы, когда оцепенение гибнущих привычек разбито и пытаешься размышлять о себе, — перестала казаться мне чем-то очень горестным, потому что, решил я, глубокие истины литературе недоступны; и в то же время меня печалило, что литература не оправдала моей веры в нее. С другой стороны, мои болезни, что вскоре приведут меня в больницу, теперь удручали меня не так сильно — раз уж то прекрасное, о котором говорится в книгах, прекрасно не более, чем то, что вижу я сам. Но по странному противоречию, теперь, когда книга рассказывала мне об этом, мне захотелось посмотреть на описанное ею снова, собственными глазами. Вот те страницы, что я прочел, пока усталость не смежила мои веки:
«Позавчера залетает[13] Вердюрен, чтобы пригласить на ужин к себе, давнишнему критику Ревю, автору книги об Уистлире, где поистине мастерство, артистическая колористика американского выходца нередко подается с изощренной тонкостью поклонником всех этих изысканностей, всех этих изящностей на полотне, что собственно и есть Вердюрен. И пока я одеваюсь, чтобы за ним последовать, от него я слышу целую историю, где временами прорывается сбивчивая, посложная и запуганная исповедь о том, как он как бы бросил писать сразу же после женитьбы на «Мадлен» Фромантена, вследствие, по его словам, привычки к морфину, отчего, по словам Вердюрена, большая часть завсегдатаев салона его жены и знать не знает, что муж когда-то что-то писал, и ей говорят о Шарле Блане, о Сен-Викторе, о Сент-Беве, о Бурти как о личностях, которым, думают они, он — он, Вердюрен! — бесконечно уступает. «Да, Гонкур, вы-то знаете, да и Готье это знал, что мои Салоны — штука посильнее этих жалких Старых мастеров, почитаемых шедевром в семье моей жены». Затем, сумерками, когда башни Трокадеро охвачены как бы последним воспламенением закатных бликов, в силу чего эти башни уже не отличить от столбиков, покрытых смородинным желе старыми кондитерами, беседа продолжается в коляске, что должна отвезти нас на набережную Конти, где и находится их особняк, по словам хозяина — бывший дворец венецианских послов, где, он говорит, есть курительная комната, которая как в Тысяче и одной ночи целиком перемещена из одного знаменитого палаццо, название которого я уже забыл, — палаццо, где был колодец, на бортике которого изображено венчание Богоматери, как утверждает Вердюрен — из прекраснейших работ Сансовино, которая, как он говорит, пригодилась их гостям, дабы стряхивать с сигар пепел. И честное слово, когда мы приехали, в серо-зелености и неопределенности лунного света, поистине подобного тому, в котором классическая живопись купает Венецию, и в коем силуэттированный купол Института наводит на мысли о Салюте на картинах Гварди, меня охватила иллюзия, будто я у парапета Канале Гранде. И эту иллюзию укрепила конструкция особняка, которого второго этажа с набережной не видать, и напоминательное высказывание хозяина дома о том, что, как он утверждает, название улицы дю Бак[14] — дурак я, что сам не догадался, — произошло от слова «барка», барки, на которой монахини прежних лет, Мирамьенки, переправлялись к службам в Нотр-Дам. Вот он, квартал, где бродило мое детство, когда тетка моя де Курмон здесь обитала, и что за возлюбовь охватывает меня, когда я вижу едва ли не впритирку к Вердюренову особняку вывеску Маленького Дюнкерка, одной из тех редких лавчонок, сохранившихся разве завиньеттировавшись, да в карандашных набросках да лессировках Габриеля де Сент-Обена, где любознательный XVIII-й век отпечатлевал эти праздные минутки, торгуя себе французскими и заграничными изяществами и «всем тем, что производится новейшего в искусстве», как написано в одном счете Маленького Дюнкерка, счете, оттиском которого одни мы, я полагаю, Вердюрен да я, обладатели, и который, все же — просто редчайший шедевр тисненой бумаги, на которой при Людовике XV-м совершались подсчеты, — бумага с шапкой, где море совершенно неясненное, судами нагруженное, волнисто и похоже на иллюстрацию одну в Издании Фермье Женеро, к Устрице и Сутягам. Хозяйка дома, что сейчас усадит меня рядом с собою, говорит мне любезно, что она украсила стол лишь японскими хризантемами, и хризантемы расставлены в вазы, а вазы — редчайшие шедевры, и каждая в своем роде; сделанные из бронзы, они листками красноватой меди кажут как бы живое опадание цветка. Были там доктор Котар и жена его, польский скульптор Вырадобетски, коллекционер Сван, знатная русская дама, княгиня, имя которой на —оф я забыл, и Котар шепнул мне на ухо, что это она вроде в упор палила в эрцгерцога Родольфа, по словам которой выходит, что я как бы в Галиции и на севере Польши так известен, так известен, что девушка не оставляет надежды на руку свою, если не уверена, что ее воздыхатель — поклонник Фостен. «У вас на западе совсем этого не понимают, — оборонила в заключение княгиня, произведя на меня впечатление ну прямо незаурядного ума, — этого проникновения писателя в женскую интимность». Мужчина с бритыми губами и подбородком, бакенбардами, как у метрдотеля, снисходительно сыплющий остротами университетского преподавателя, снизошедшего до своих лучших учеников по случаю дня св. Карла, — это Бришо из Университета. По произнесении моего имени Вердюреном он и звуком не выдал, что знает наши книги, и это навело мне на душу сердитое уныние, возбужденное заговором, организованным против нас Сорбонной, привносящей и в любезное жилище, где меня принимали, враждебное противоречие, намеренное умолчание. Мы проходим к столу, а там — необычайная вереница блюд, попросту шедевров фарфорового искусства, эти — ценителя которых услажденное внимание вкушает наиприятнейшую художественную болтовню, принимая нежнейшую пищу — тарелки Юн-Чин с оранжеватостью по краям, голубоватостью набухших лепестков речного ириса, и поперек, вот уж украска, заря да стая зимородков да журавлей, заря в тех утренних тонах, что ежедневно на бульваре Монморанси пробуждают меня, — саксонские тарелки слащавей в грациозке своего исполнения, в усыпленности, в анемии их роз, обращенных в фиолет, в красно-лиловые раскромсы тюльпана, в рококо гвоздики или незабудки, — севрские тарелки, обрешеченные тонкой гильошировкой белых своих желобочков, с золотой мутовкой или завязывающейся, на мучнистой плоскости дна, изящной выпуклостью золотой ленты, — наконец, все это серебро, где струятся люсьенские мирты, кои признала бы Дюбарри[15]. И что, может быть, столь же редкостно, так это совершенно выдающееся качество кушаний, подаваемых здесь к столу, — пища приготовлена искусно, стряпана как парижане, необходимо сказать, забыли вкушать на великолепнейших обедах, она напомнила мне искушенных стряпателей в Жан д'Ор. Взять хотя бы эту гусиную печенку и забыть о том безвкусном муссе, который обычно под этим именем подается, — и немного осталось мест, где обыкновенный картофельный салат приготовлялся бы из такого же картофеля, упругого, как японские пуговицы слоновой кости, матового, как костяная ложечка, с которой китаянки льют воду на рыбу, которую только что поймали. Венецианское стекло предо мною — роскошные алеющие самоцветы, окрашенные необычайным леовийским, приобретенным у г-на Монталиве, и это — забава для воображения глаза, но также, с позволения сказать, для воображения того, что именовалось некогда брюхом — видеть несомого к столу калкана, у которого ничего общего с тухловатыми калканами, подаваемыми к наироскошнейшим пиршествам, растянутое путешествие коих отзывается проступанием в спинах костей их, но калкана, который подан не быв склеен тем тестом, что готовят под именем Белого Соуса столькие шеф-повара почтеннейших жилищ, но под настоящим Белым Соусом, изготовленным на масле по пять франков за фунт, видеть несомого калкана на прекрасной тарелочке Чин-Хона, пронизанной пурпурными царапинками заходящего солнца, над морем, где сквозит веселая навигация лангустов, в пунктирчиках шероховатых, столь необычно поданных, будто их размазали по трепещущим панцирям, а по краешку тарелочки — выловленная удочкой юного китайца рыбешка, что буквально восхищает перламутроблестящими оттенками серебряной лазури своего живота. И когда я сказал Вердюрену, что, должно быть, уж очень нежное удовольствие получает он, изысканно принимая пищу из этой коллекции, которую не каждый принц сегодня может позволить себе в своем доме, хозяйка меланхолически обронила: «Сразу видно, что вы его совсем не знаете». И затем она рассказала мне, что ее муж — причудливый маньяк, которому безразлично изящество, «маньяк, — повторила она, — просто маньяк, у него аппетита больше к бутылке сидра, которую он будет распивать со всяким сбродом в прохладе нормандской фермы». И очаровательная женщина в истовой любови к колоритам местности рассказывает нам с воодушевлением, перехлестывающим края, о Нормандии, где они жили, Нормандии, которая как бы необъятный английский парк с душистыми крупными насаждениями в духе Лоренса, бархатистостью криптомерий и фарфорованной каймой розовых гортензий натуральных лужаек, мятьем сернистых роз, коих опадание на путях крестьян, где инкрустация двух обнявшихся грушевых деревьев напоминает нечто орнаментальное, наводит на мысли о небрежно клонящихся цветущих ветвях на бронзе канделябров Готьера, Нормандии, о которой отдыхающие парижане забыли знать, Нормандии, сокрытой оградой участка, забора, который, доверились мне Вердюрены, без труда кое-кого пропустит. На исходе дня, в сонливом погашении цветов, когда если что свет и излучает, то только море, море почти створоженное, голубоватое, как молочная сыворотка («Да что вы в море понимаете, — неистово восклицала моя собеседница в ответ на слова, что Флобер де нас с братом возил в Трувиль, — абсолютно ничего, ничего, надо поехать со мной, без этого вы не узнаете ничего и никогда»), они возвращаются настоящими цветущими лесами тюлевых роз, которыми прикинулись рододендроны, их опьяняет запах сардинерии, что вызывает у ее мужа невыносимые приступы астмы, — «Да, — настаивает она, — отвратительные астматические припадки». Туда следующим летом они вернутся, приютят целую колонию художников в некоем восхитительном средневековом жилище, древнем монастыре, для них и сняли, за пустячок. И честное слово, когда я слушал эту женщину, которая, попав в такую изысканную среду, все равно сохранила в своей речи свежесть, присущую женщине из простонародья, которой слова вам покажут все как вы сами вообразили, у меня едва слюнки не потекли по всему тому житью — каждый работает в своей келье, в гостиной, такой огромной, что там два камина, все собираются перед завтраком для изысканнейших бесед, разгадывают шарады и играют в фанты, — и все это навело меня на мысль о шедевре Дидро: Письмах к м-ль Волан[16]. И затем, после завтрака, все выходят, даже во дни непогод, палящим зноем, сверкающим ливнем, ливнем, линующим своим светлым процеживанием узловатости первых чудных аккордов столетних буков, зачинающих у ограды Зеленеющую Красоту, чтимую XVIII-м веком, и кустов, задержавших, ввиду цветущих бутонов и как взвесь на своих ветвях — капли дождя. Останавливаются послушать нежного шлепа, влюбленного в свежесть, снегиря, купающегося в милой крошечной ванне из Нимфенбурга, разумею венчик белой розы. Но стоило мне заговорить с г-жой Вердюрен о нормандских цветах и пейзажах, нежно пастелизуемых Эльстиром, как она бросила, сердито вскинув голову: «Так это ж я его всему научила, всему, да будет вам известно, и всем любопытным местечкам и всем мотивам, — и я поставила ему это на вид, когда он нас покинул, не так ли, Огюст? всему, что он изображал. Предметы-то он умел рисовать, это, надо отдать ему должное, можно за ним признать. Но он совершенно не понимал цветы, даже не мог отличить просвирняк от мальвы! И это ведь я его научила, — вы можете себе представить? — распознавать жасмин». И надо признать любопытным, что мастер цветов, коего почитатели искусства сегодня ставят выше всех и почитают даже больше Фантен-Латура, не сумел бы ни за что, быть может, не будь этой дамы, нарисовать жасмин. «Да, говорю я вам, жасмин; все розы, что он рисовал, это все у меня — или же я ему их приносила. Мы называли его господин Тиш; спросите у Котара, Бришо, у любого, считали ли его у нас великим человеком. Да он сам бы рассмеялся в ответ! Я его научила расставлять цветы; у него самого поначалу не получалось. Он не мог составить букет! Врожденного вкуса, чтоб отобрать, у него-то не было, и мне приходилось говорить ему: 'Нет, этого вы не рисуйте, это того не стоит, рисуйте вот что'. Ах! если бы он слушался нас и в отделке своей жизни, как в отделке своих цветов, если бы он не вступил в этот постыдный брак!..» И внезапно вспыхнувшие глаза, поглощенные мечтательностью, обращенной в прошедшее, не без нервического подергиванья маниакально вытянутых фаланг из пышного бархата рукавов ее блузы — все это, окантовав страдальческую ее позу, походило на восхитительное полотно, никогда, полагаю я, не написанное, но в котором читались как затаенное возмущение, так и гневная обидчивость друга, оскорбленного во всей своей деликатности, женской стыдливости. И она рассказывает нам об удивительном портрете, сделанном Эльстиром для нее, портрете семьи Котаров, портрете, переданном ею в Люксембургский, когда она поссорилась с художником, — поведав, что это именно она подала художнику мысль нарисовать мужа во фраке, чтобы добиться всей этой прекрасной ясности белого пятна рубашки, и именно она выбрала бархатное платье для жены, платье, что как подлежащее в центре всей этой яркомигающести светлых нюансов ковров, цветов, фруктов, дымчатых платьев девочек, подобных пачкам балерин. Ей, ей принадлежит заслуга изобретения — причесываться, что ныне внесло свой вклад в славу художника, идея в целом будто состояла в том, чтобы изобразить женщину не разряженной, но застигнутой в интиме ее повседневности. «Я ему так значит и говорю: 'Женщина причесывается, вытирает лицо, ноги греет и не думает, что на нее смотрят, — здесь же целая куча всяких интересных движений, и все это прямо-таки по-леонардовски!'» Но тут и Вердюрен отметил, как она разнегодовалась, что так вредно для столь, в сущности, нервной особы, как его супруга, и Сван приводит меня в восторг, указывая на черно-жемчужное колье на груди хозяйки дома, которое она приобрела совсем белым на распродаже у какого-то наследника г-жи де Лафайет, а этой последней колье, скорее всего, было подарено Генриеттой Английской, жемчуга же стали черными в результате пожара, который уничтожил часть дома, в котором жили Вердюрены, на одной улице, название которой я уже забыл, пожара, после которого был обнаружен ларчик, в котором хранились эти жемчуга, а они стали совсем черными. «Я знаю портрет с этими жемчугами, на плечах той самой г-жи де Лафайет, да, совершенно верно, с этими самыми жемчугами на ее плечах, — настаивает Сван при слегка удивленных восклицаниях гостей, — да, вылитые эти жемчуга на картине в коллекции герцога де Германта!» Коллекции, не имеющей равных в мире, восклицает Сван, на которую хорошо бы мне сходить посмотреть, на эту коллекцию, унаследованную знаменитым герцогом, который был ее любимым племянником, от г-жи де Босержан, тетки его, от г-жи де Босержан и еще от г-жи д'Азфельд, сестры маркизы де Вильпаризи и принцессы Ганноверской, которого мы с братом так любили, когда он был очаровательным карапузом Базеном, ибо это есть имя герцога. Тут доктор Котар не без утонченности, проявившей в нем изысканность прямо-таки незаурядную, вернувшись к саге с жемчугами, сообщает нам, что катастрофы подобного рода производят в мозгу у человека искажения точь-в-точь схожие с теми, которые наблюдаются в неодушевленной материи, и поистине более философским манером, чем то сделали бы врачи, рассказывает о камердинере г-жи Вердюрен, чуть было не погибшем на ужасном том пожаре и в результате переродившемся совершенно, и изменившим даже свой почерк, да настолько, что первое письмо, полученное от него хозяевами в Нормандии, в котором им сообщалось о происшествии, было сочтено ими мистификацией какого-то шутника. И не только почерк, но и сам он, согласно утверждениям Котара, переродился, и из отпетого трезвенника стал такой омерзительной пьянчужкой, что госпожа Вердюрен вынуждена была его рассчитать. И показательное рассуждение переместилось, по изящному мановению хозяйки дома, из столовой в венецианскую курительную залу, где Котар рассказал нам об известных ему подлинных раздвоениях личности, приводя в пример одного из своих пациентов, коего он любезно предложил привести ко мне, и каковому, по его словам, достаточно тронуть виски, чтобы пробудить в себе некую вторую жизнь, по ходу которой он ничего не помнит о первой, да так, что будучи в первой вполне порядочным человеком он был много раз арестован за кражи, совершенные им в другой, где он был попросту отвратительным негодяем. На это г-жа Вердюрен тонко заметила, что медицина могла бы помочь театру более правдивыми сюжетами, где путаница забавно зиждилась бы на ошибках, связанных с патологиями, и это, как нить за иглой, потянуло г-жу Котар рассказать, что нечто подобное уже написано, неким прозаиком, любимцем вечерних чтений детей ее, Стивенсоном из Шотландии, и услышав его имя Сван категорически заявил: «Но это совершенно замечательный писатель — Стивенсон, я вас уверяю, г-н Гонкур, выдающийся и равный величайшим». И когда, восхищаясь кессонами с гербами в плафонах, перевезенными из палаццо Барберини, я позволил себе выразить сожаление в связи с прогрессирующим потемнением чаши, вызванным пеплом наших «гаванских», тогда Сван рассказал, что подобные пятна свидетельствуют, если судить по книгам, имевшимся у Наполеона I и принадлежащим теперь, несмотря на его антибонапартистские убеждения, герцогу де Германту, о том, что император жевал табак, а Котар, выказывая любознательность и проникновение воистину во все, заявил, что пятна эти объясняются вовсе не этой причиной, — «нет, вовсе нет», — авторитетно настаивал он, но привычкой сосать, даже на полях сражений, лакричную пастилку, чтобы успокоить боли в печени. «Ибо у него болела печень, это его и убило», — заключил доктор».
Похожие книги на "Обретенное время", Марсель Пруст
Марсель Пруст читать все книги автора по порядку
Марсель Пруст - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mybooks.club.