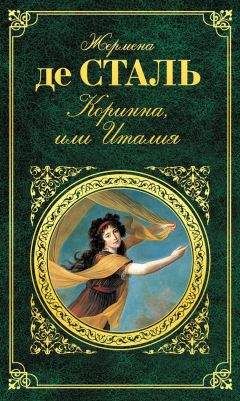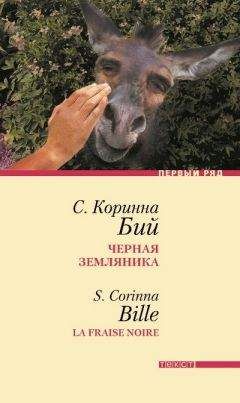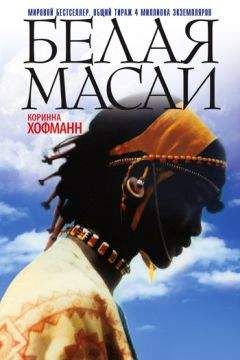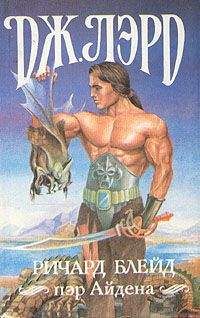Итальянцы гораздо более замечательны своим прошлым и своим возможным будущим, нежели тем, каковы они сейчас. Если смотреть лишь с точки зрения пользы на безлюдные окрестности Рима, с их почвой, истощенной веками славы и словно из презрения переставшей рождать, то, кроме опустелой, невозделанной земли, ничего не увидишь. На Освальда, воспитанного с детства в любви к порядку и общественному благоустройству, заброшенная равнина, возвещавшая о близости древней столицы мира, с самого начала произвела невыгодное впечатление, и он укорял в нерадивости итальянский народ и его правителей. Лорд Нельвиль судил об Италии как просвещенный государственный деятель, а граф д’Эрфейль — как светский человек: первый был слишком глубокомыслен, а второй — слишком легкомыслен, чтобы почувствовать неизъяснимую прелесть Римской Кампаньи{4}, которая поражает воображение, вызывая в памяти предания далекой старины и великие бедствия, выпавшие на долю этого прекрасного края.
Граф д’Эрфейль препотешно жаловался, браня на чем стоит свет окрестности Рима.
— Где это видано? — повторял он. — Ни загородных вилл, ни колясок, — никак не подумаешь, что мы подъезжаем к большому городу! Бог ты мой! Что за унылый вид!
Приблизившись к Риму, кучера в восторге закричали:
— Смотрите, смотрите, вот купол собора Святого Петра! — С таким же выражением гордости неаполитанцы указывают на Везувий, а приморские жители — на море.
— Как он похож на купол Дома инвалидов!{5} — воскликнул граф д’Эрфейль.
Это сравнение, в котором было больше патриотизма, нежели справедливости, сразу нарушило то впечатление, какое могло бы произвести на лорда Нельвиля это дивное создание человеческого гения. Они приехали в Рим не в солнечный день и не лунной ночью, а в серые сумерки, когда при хмуром освещении все предметы кажутся тусклыми. Они переправились через Тибр, даже не взглянув на него, и въехали в город через Народные ворота, откуда дорога ведет на Корсо, самую большую улицу в новейшей части Рима, — части наименее своеобразной, напоминающей многие столицы Европы.
На улицах прогуливались толпы народа; на площади, где возвышается колонна Антонина{6}, любопытные теснились вокруг фокусников и кукольных балаганчиков. Все это привлекло внимание Освальда. Однако само имя Рима еще не вызывало отклика в его душе; он ощущал лишь безмерное одиночество, от которого разрывается сердце, когда попадаешь в чужой город и видишь множество чужих людей, кому нет до тебя дела. Подобные размышления, грустные для всех, особенно тяжелы для англичан, которые привыкли жить среди соотечественников и с трудом приноравливаются к иноземным нравам. А в огромном караван-сарае, именуемом Римом, все кажутся иноземцами, даже сами римляне — словно они не исконные жители этого города, но «пилигримы, которые отдыхают под сенью руин»{7}. Подавленный горьким чувством, Освальд заперся у себя в комнате и не пошел осматривать город. Он и не подозревал, что эта страна, порог которой он переступил с такою тоской, станет для него источником новых мыслей и новых наслаждений!
Книга вторая
Коринна на Капитолии
Освальд проснулся в Риме. Яркое солнце, солнце Италии, засияло ему прямо в глаза, и сердце его дрогнуло от любви и благодарности к небу, которое посылало на землю свои дивные лучи, словно желая напомнить о себе. По городу плыл колокольный звон бесчисленных церквей; время от времени раздавались пушечные выстрелы; они оповещали о праздничном событии; на вопрос Освальда, в чем причина торжества, ему отвечали, что нынешним утром на Капитолии будут венчать лаврами Коринну, самую знаменитую женщину Италии, — поэтессу, писательницу, импровизаторшу и одну из первых в Риме красавиц. Он стал расспрашивать о подробностях этой церемонии, освященной именами Петрарки и Тассо{8}, и то, что он услышал, еще сильнее возбудило его любопытство.
Трудно представить себе нечто более противное привычным понятиям и убеждениям англичанина, чем столь широкая известность женщины; однако энтузиазм, с каким итальянцы приветствуют творческий дар, увлекает, хотя бы ненадолго, и иностранцев: живя среди народа, так бурно выражающего свои чувства, легко порою забыть предрассудки своей родины. В Риме даже простолюдины разбираются в искусствах и со знанием дела толкуют о статуях; картины, монументы, памятники древности, литературные заслуги — любое выдающееся явление искусства становится там предметом всенародного внимания.
Освальд вышел на площадь; кругом только и говорили, что о Коринне, ее талантах, ее гении. Улицы, по которым она должна была проехать, украсили флагами. Толпа, обычно собирающаяся там, где появляются богачи или сильные мира сего, сейчас горела нетерпением увидеть женщину, единственной силой которой было ее духовное превосходство.
При современном положении дел итальянцам осталась возможность искать себе славы лишь на поприще искусств. Они воздают своим даровитым художникам такие почести, что, если бы одних оваций было достаточно, в Италии оказалось бы множество великих мужей; но для этого требуется независимое существование, дающее пищу уму, — одним словом, жизнь, полная энергической деятельности и высоких интересов.
Освальд бродил по улицам в ожидании появления Коринны. Поминутно слышалось ее имя; каждый старался прибавить нечто новое к рассказам о том, что в ней соединились все таланты, способные пленять воображение. Один говорил, что во всей стране не найти такого проникновенного голоса; другой уверял, что никто лучше ее не играет в трагедии; третий утверждал, что она танцует как нимфа, а рисунки ее необычайно изящны и полны затейливой выдумки; все вместе сходились, однако, на том, что никто до нее не писал и не импровизировал таких дивных стихов и что в самой простой беседе она покоряет умы то непринужденностью своего разговора, то пламенным красноречием. Шли споры, который из городов Италии имеет право называться ее родиной; римляне с жаром доказывали, что надобно быть уроженкою Рима, чтобы так чисто говорить по-итальянски. Никто не знал ее фамилии. Ее первая поэма, появившаяся лет пять тому назад, была подписана лишь именем Коринны. Никому не было известно, где она жила прежде и чем занималась; сейчас ей было около двадцати шести лет. Таинственность, окружавшая столь известную женщину, о которой говорили положительно все, но настоящего имени которой не знал никто, представилась лорду Нельвилю одной из чудесных особенностей той удивительной страны, куда он попал. Доведись ему встретить такую женщину в Англии, он бы строго осудил ее; но к Италии он не применял никаких условных общественных мерок, и обряд венчания Коринны уже манил его воображение, подобно приключению в духе Ариосто{9}.
Бравурные звуки музыки возвестили о приближении торжественной процессии. Любое событие, сопровождаемое музыкой, всегда вызывает некий трепет в душе. Шествие открывала большая группа знатных римлян, среди них было и несколько иностранцев; за ними ехала колесница, в которой восседала Коринна.
— Это кортеж почитателей Коринны, — сказал один горожанин.
— Да, — прибавил другой, — она принимает поклонение от всех, но никому не отдает явного предпочтения; она богата и независима; многие даже думают — впрочем, это по ней видно, — что она очень высокого происхождения, но не желает, чтоб об этом знали.
— Как бы то ни было, — заметил третий, — она — это божество, сокрытое облаком.
Освальд взглянул на говорившего: его внешность обличала в нем человека весьма скромного звания. Однако жители Юга с такой свободой пользуются поэтическим языком, что можно подумать, будто они черпают свои образы из воздуха и обретают их в солнечных лучах.
Но вот толпа расступилась и показалась Коринна: ее везла четверка белых коней, запряженных в античную колесницу. По обеим сторонам колесницы шли девушки в белых одеждах. Всюду, где проезжала Коринна, воздух наполнялся благовонными курениями; чтобы увидеть ее, люди толпились у окон, украшенных цветами и алыми коврами; все время раздавались возгласы:
— Да здравствует Коринна! Да здравствует гений! Да здравствует красота!
Волнение охватило решительно всех — но только не лорда Нельвиля. Напрасно старался он внушить себе, что надобно отбросить и холодную сдержанность англичанина, и насмешливость француза, чтобы судить о том, что перед ним происходит, — он безучастно смотрел на празднество, пока наконец не увидел Коринну.
Она была одета как сивилла с картины Доменикино{10}. Индийская шаль, повязанная тюрбаном, из-под которого выбивались прекрасные черные волосы, белое платье, голубая накидка, падавшая легкими складками на грудь, — весь ее наряд был весьма живописен, но не настолько отклонялся от общепринятой моды, чтоб показаться театральным. Поза, в какой Коринна сидела на колеснице, была полна благородства и скромности; восхищение народа ее заметно радовало, но какая-то робость сквозила в ее радости, точно она просила прощения за свой триумф. Выражение ее лица, глаз, ее улыбка привлекали к ней сердца, и лорд Нельвиль проникся к ней расположением с первого взгляда, еще до того, как другое, более властное чувство не покорило его окончательно. Руки Коринны были ослепительной красоты; ее высокая статная фигура придавала ей сходство с греческой статуей; взор ее сиял вдохновением, вся она дышала молодостью и счастьем. Естественность, с какой она кланялась и благодарила за аплодисменты, еще более подчеркивала пышность необычайной обстановки, окружавшей ее; Коринна напоминала жрицу бога Аполлона, направляющуюся в храм Солнца, в то же время в ней угадывалась совсем простая женщина в своем домашнем кругу. Одним словом, все ее движения были полны прелести, вызывавшей симпатию и любопытство, удивление и нежность.