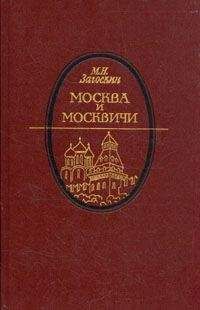В прошедший понедельник, рано поутру, получил я от моего старинного приятеля, живущего в Смоленске, письмо; он рекомендует мне в этом письме одного путешественника, г-на Дюверние, который едет взглянуть на Москву. Тут же приложена была небольшая записка на французском языке от самого г-на Дюверние. Он уведомлял меня, что вчерашнего числа поздно ночью, не доехав до Москвы, остановился в Кунцеве у своего единоземца г-на Д***, который нанимает там дачу. В заключение своей записки он просил меня уведомить его, когда может ко мне приехать. «Вот, — подумал я, — прекрасный случай пощеголять Москвою! Этот француз приехал ночью, не видел еще Москвы, следовательно, увидит ее так, как я хочу. Да только вот беда: смоленский-то въезд больно плох: что за улица, какие пустыри!.. Вида никакого, дома прескверные. Первое впечатление будет самое невыгодное, а для француза это всё! Нет, уж так и быть, — лошади у меня добрые, прокачу его порядком». Я отдал кое-какие приказания моему Никифору, велел заложить коляску четверней в ряд и отправился.
Я застал г-на Дюверние за утренним туалетом; он очень извинялся, что позволил себя предупредить, и вообще показался мне весьма умным и любезным человеком. Я пригласил его к себе на русский стол и предложил отправиться до обеда вместе со мной смотреть Москву. Когда мы выехали на Смоленскую дорогу и стали приближаться к заставе, я сказал ему:
— Знаете ли что? Теперь еще рано, утро прекрасное: чем нам ехать прямо в город, не лучше ли взглянуть на его окрестности? Здесь же пойдут места гористые, с которых весьма приятный вид на Москву.
— Очень рад! — отвечал француз. — Я совершенно в ваших приказаниях.
— Ступай направо! — закричал я кучеру. Мы свернули с большой дороги, проехали шибкой рысью мимо Скотного двора, переправились подле мельницы через речку Сетунь, которая в этом месте впадает в Москву-реку, и стали подыматься в гору. Сначала мы не видели ничего, кроме мелкого кустарника и глинистых бугров, посреди которых прорезывалась довольно плохая дорога. Потом, когда поднялись на первые возвышенности Воробьевых гор, налево стали обрисовываться, на самом краю горизонта, отдаленные части города: ближайших не было еще видно; но мой путешественник, как будто бы предчувствуя, что перед ним готова открыться великолепная картина, не спускал глаз с левой стороны нашей дороги. Мы въехали по узкой дорожке в мелкий, но частый лес. Вот он стал редеть, дорожка круто поворотила влево, мы выехали на открытое место, и третья часть Москвы, со всеми своими колокольнями, церквами и каланчами, которые так походят на турецкие минареты, разостлалась, как нарисованная, под нашими ногами. Впереди всего подымался Новодевичий монастырь со своими круглыми башнями и высокою колокольнею; посреди необозримых лугов тихо струилась в своих песчаных берегах капризная Москва-река: то приближалась к подошве Воробьевых гор, то отбегала прочь, то вдруг исчезала за деревьями, которые росли кое-где по скату холмов. Как в волшебной опере, менялись поминутно декорации этой обширной сцены: при каждом повороте дороги, при каждом изгибе гор Москва принимала новый вид.
— Это прелесть! Чудо! — кричал Дюверние. — Я готов стать на колени перед Москвою!
Я чуть было не вымолвил: «Нет, уж это слишком много! Мне совестно!» Но опомнился и не сказал ничего.
— Впрочем, все это, — прибавил через минуту путешественник, — вероятно, один оптический обман.
Меня обдало холодом.
— Как? — вскричал я.
— Да! — продолжал Дюверние. — Я был в Константинополе: издали это великолепнейший город в мире; а въезжайте в него — скверные улицы, безобразные дома, гадость, грязь…
— Да что же общего, — спросил я, — между Константинополем и Москвою?
— Как что общего? Да что ж такое ваша Москва? Сотни две барских огромных домов, несколько тысяч деревянных домиков; рядом с дворцами хижины, множество церквей какой-то странной азиатской архитектуры; одним словом, не город, а собрание деревень — c'est connu!
— У вас в Париже, вероятно, это знают из путешествия Олеария, — сказал я почти с злобною улыбкою.
— Да разве Москва походит на европейский город? — спросил с удивлением Дюверние.
— И да и нет. Да вот вы сами это увидите.
Я замолчал. Нас быстро провезли мимо Васильевского, и я не обратил даже внимания на то, что путешественник был поражен необычайной красотою этого загородного дома. Мне кажется, я даже не отвечал на его вопрос, кому принадлежит этот замок (ce chateau); одним словом, я просто сердился и молчал вплоть до Калужской заставы. Да и неудивительно: после такой личной обиды не скоро успокоишься!
— Вот и Москва? — прошептал Дюверние, когда опустился за нами шлагбаум.
— То есть мы въехали в одно из ее предместий, — сказал я, — в котором, как вы видите, нет еще настоящих городских домов. Все эти небольшие домики с обширными садами можно скорее назвать дачами, чем домами. Вот налево Нескучный сад. Вам надобно побывать в нем: он очень живописен…
— Что это за монастырь? — спросил путешественник, взглянув направо.
— Это Донской монастырь. Он основан в 1596 году в память победы, одержанной царем Феодором Ивановичем над Крымским ханом; следовательно, существует только двести сорок шесть лет. У нас в Москве есть монастыри несравненно древнее и любопытнее этого. Вот например…
— Quel superbe Hotel! — прервал мой француз. — Какие принадлежности! Какой двор!
— Это летний дворец русской императрицы. Из его сада прекрасный вид на Москву-реку.
— А это также дворец? — сказал Дюверние, указывая на Голицынскую больницу.
— Нет, это больница…
— А это что за великолепное здание? — спросил он через полминуты.
— Больница.
— Ого! — прошептал француз. — Извините, — сказал он, помолчав несколько времени, — я надоедаю вам моими вопросами.
— Сделайте милость!
— Позвольте спросить, что это за огромный дом?…
— Больница.
— Ну, вашим больным жить хорошо!
— Я уверен, что вы это повторите в настоящем и буквальном смысле, когда заглянете во внутренность этих заведений.
— Три больницы, похожие на дворцы, и все три почти сряду!.. — шептал путешественник.
— Есть недалеко отсюда и четвертая.
— Следовательно, эта часть города исключительно назначена для человеколюбивых заведений?
— О нет, и в других частях города есть странноприимные дома и больницы ничем не хуже этих.
— Вот это прекрасно! — сказал Дюверние. — Это признак истинного просвещения, это делает честь Москве!
Через несколько минут мы выехали на Полянскую площадь. Я велел повернуть по Козьмодемьянской улице на Каменный мост. Так как эта часть города не из самых красивых, то я заговорил с моим товарищем о Париже. Француз закипел, начал мне рассказывать о своей столице всего просвещенного мира и вовсе не замечал, где мы едем. Я оставил его в этом восторженном положении до тех пор, пока мы ехали до Каменного моста; тут я велел остановиться и сказал ему:
— Посмотрите направо!
Дюверние поднял глаза и ахнул: перед ним Москва-река в гранитных берегах, с широкой набережной, с красивыми чугунными решетками; за ней с одной стороны громада каменных зданий и длинный ряд кремлевских садов, с другой, как целый город, колоссальный Воспитательный дом; за ним, уставленный каменными домами, красивый холм, который, впрочем, я не люблю называть по имени, а посреди зеленая гора, подпертая высокими стенами, опоясанная цепью башен и увенчанная святыми храмами, под благодатной сенью которых возвышаются чертоги царские и древние терема — эта священная колыбель всех царей православной и могучей России.
— O, que c'est beau! — вскричал Дюверние. — Это Кремль?
— Да! — отвечал я. — Это наш русский Капитолий, наш Кремль, которого не могли разрушить ни татары, ни поляки, ни…
— Ни французы? — сказал с улыбкою путешественник. — Вы напрасно их обвиняете.
— Однако ж в двенадцатом году…
— Они хотели подорвать весь Кремль, — прервал Дюверние. — Обвиняйте в этой, не слишком европейской, попытке не французов, а того, кто привел их в Москву. Мы взрываем крепости, но дворцы, исторические памятники и стены, за которыми не спрячешься от ядер, мы уж, конечно, разрушать не станем.
«Сказал бы я тебе и на это кое-что, — подумал я, — да ты любуешься Кремлем, так бог с тобой!»
— Знаете ли, — продолжал француз, — что это все так прекрасно, так живописно, что я, может быть, предпочел бы Москву многим европейским городам, если б она была хоть несколько многолюднее, а то мне кажется, извините, улицы ваши очень пусты.
«Злодей! — подумал я. — Заметил, как заметил! Да постой же, я попотчую тебя народом!»
— Держи правее, по набережной, — закричал я кучеру, — на Москворецкий мост!
Когда мы переехали через этот красивый мост и стали подыматься вверх по Москворецкой улице, Дюверние заметил, что тут вовсе нет недостатка ни в проходящих, ни в проезжающих. Первый предмет, который обратил на себя все его внимание, был Покровский собор, который мы привыкли называть Василием Блаженным.