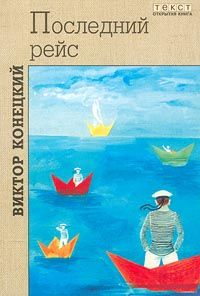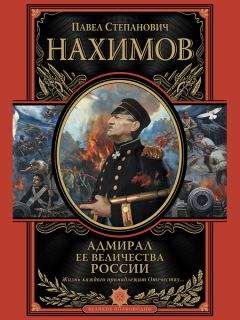Санитарка-старушенция шмякала тряпкой по мрамору и рассуждала в мою сторону в поиске сопонимания:
– Яще десять год назад студент другой вовсе был: курили меньше, а как тяперя напиваютси-то! Ужас! Раньше профессора так не напивалися! И стекла бьють… Какие из их доктора вылупятся? Чем дольше учат, тем оно и хужее выходит. Зимой-то для тепла курют, а летом от нервов, что ль?… Сусед в меня тоже холода боялси, кутылси все и курил. Потом отраву-то бросил, а по колидору вовсе голый ходить начал. Ну, через неделю помер…
Тут подоспели свободные тапочки, и я начал приспосабливать чужие, засаленные лапти к своим аристократическим ступням.
– А другая соседка моя в гостинице уборщицей работает, – вослед мне, теряя слушателя, торопилась высказаться санитарка. – В буфете, правда…
– Тараканы-то у вас есть? – для поддержания ниточки нашей связи поинтересовался я.
– Жуть! Две кошки у нее. Соседские-то… А буфет в гостинице со столами: один – для инородцев, другой наш. И в се задаче наших к ихним не пропускать. Так вот остатки ихних бутербродов кошки едят, а наших – ни-ни. Яще она лимонад, который в бутылках остаетси, в бидон сливает. Ни в жисть бы себе такого не позволила…
Поднимаясь по старинной мраморной лестнице больницы водников, я почему-то думал о том, что род тараканов и род акул существуют на планете Земля рекордно длительное время. И еще почему-то о том, что отец Флоренский привлекался к суду за протесты против казни лейтенанта Шмидта в 1906 году, чтобы получить пулю в затылок в 1937-м.
Фомич неожиданному визиту очень обрадовался, хотя лежал он с какой-то кишкой в боку, из которой капало в банку.
Я объяснил, что явился без шила, так как не знаю, чего ему разрешено.
– Для питания организма все разрешено, – утешил Фомич, – окромя, скажу без нюансов, шила и других алкогольных напитков и перца.
В палате с ним было еще четверо бедолаг. Самого Фомича, оказывается, перевели сюда («в люкс» – он сказал), то есть в палату, только вчера. Раньше вкушал он больничный уют в коридоре.
Двое бедолаг спали. Один лежал под капельницей и читал «Крокодил». Другой читал газету «Водный транспорт».
– Позвольте представить вам моего гостя, – сказал Фомич, поправляя свою кишку, которая норовила выскочить из банки. – Это Виктор Викторович Конецкий, он, значить, у меня на «Державино» дублером плавал и книжки пишет. «Полосатый рейс» сочинил. Без дураков говорю.
Тот, который лежал под капельницей, взглянул на меня сквозь брежневские брови и пробормотал:
– Очень приятно, писатель.
– Его Демьяном звать, стармех с «Ильича», – объяснил Фомич. – Да… А «Державино»-то мое на иголки порезали… Тю-тю, значить, пароходу. А ты, значить, опять в Арктику собрался? Я уж, прости, Виктор Викторович, тебе тыкать буду. Мне так для обоюдного общения проще выходит. Да и «Державино», видишь, на иголки списали… Чего уж тут церемонии, значить, разводить, ежели и сам скоро в крематорий на мертвый якорь стану.
По внешнему виду Фомы Фомича таким жареным еще не пахло. О чем я ему и сказал. Думаю, он и сам так думал. Потому оживился и спросил, на какой пароход я назначен. Я поинтересовался, знает ли он капитана «Кингисеппа».
– На эстонском большевике, значить, кувыркаться будешь. Мастер там формальный пацан. Сорока еще нет. Неутвержденным третий год плавает. Звать Александр Юрьевич. А может, и Юрий Александрович. Память, мать ее… И сразу ошарашил очередным противоречием:
– Старший механик там Герасимов Борис Николаевич двадцать восьмого года. У меня еще мотористом начинал. Второй помощник, ежели, значить, в чифы еще не вылез, Михайлов Алексей Аркадьевич, сорок пятого года. Боцманом на «Пскове» у Шкловского заклепки тряпками затыкал. «Псков» – либертос старый. Помнишь его?
– Помню, а вы, Фома Фомич, еще на свою память жалуетесь!
– Мастер, говорю, молодой, но башка на месте, значить, сидит.
– Сон у вас как? – спросил я, ибо у самого после комариной ночи глаза начинали слипаться. – Комары не беспокоят? Фонтанка-то под окном.
– Комары, комары… Они тут через пять минут сдохнут… А вот в последнем рейсе меня божьи коровки в Дюнкерке в такой, значить, оборот взяли, что я даже в газету попал. В ихнюю. Цельная дивизия энтих божьих тварей на мой пароход набросилась. Мы, значить, все дымовые шашки запалили, пожарные насосы врубили, на них полное давление дали, матросы от струи падают, а эти, бог их в мать, божьи твари и в ус не дуют. В машинное отделение проникли, иллюминаторы залепили. Ни фига не берет, а мне сниматься надо. Куда снимешься, когда, значить, на лобовых окнах в рубке сантиметр ентих тварей?
– А на других-то судах? – спрашиваю.
– В том и суть! Только на советский пароход насели! Пока не заштормило да ветром их, мать их, не сдуло, так в ентом Дюнкерке и простояли. А ты: «комары»! На что прикажешь дымовые шашки списывать? Кто тебе в такой конфуз и безобразие поверит? Слава богу, запретил толпе огнетушители трогать… С насекомыми нынче на планете, скажу честно, не побоюсь, сплошное блядство без всяких, как Андрияныч говорил, царствие ему небесное, нюансов…
– С волками жить – по-волчьи выть, – решился наконец открыть рот подкапельный. – Ехали в Гамбург на приемку. В купе попутчица – дородная фрау с пузом. Пошла в гальюн и пропала. Оказались мгновенные роды: она в гальюне сильно натужилась и ребенок выскочил прямо в трубу. Ну, женщина обыкновенно в обморок: где дите? На станции поезд законсервировали, и ей обвинение, что специально все подстроила. Мужа самолетом вызвали. Но она доказала, что без злого смысла, а все по природе. И пошли они со станции обратно по путям, тельце искать. Встречают обходчицу, и оказывается, дите живо и здорово, не разбилось дите-то. Как катушка ниткой в пуповину обмотано было. Вот пуповина-то по ходу дела, поезда то есть, раскручивалась, и тем полет дитя тормозило. А потом, когда дите опустилось на путь-то, тут пуповина враз и лопнула. Вот так у капиталистов бывает.
– Н-да, хорошо мы тут у вас посидели, – сказал я. – Не скучно вам тут.
Пожал Фоме левую, свободную от кишки руку, бедолагам пожал торчащие из-под коротких одеял ноги, пообещал еще Фомичу, что если занесет на Колыму или на Енисей, то обязательно привезу ему презент – не меньше пуда копченого муксуна.
И с этим покинул больницу имени не известного мне чудака Чудновского.
Поймал такси и рванул на родную Петроградскую. На Большом проспекте вылез и пошел в парикмахерскую. Это у меня некий ритуал перед значительными событиями, да и внешний вид несколько омолаживается, когда лохмы обкорнаешь.
В приемном салоне, где тоже, конечно, висели пудовые и вечно не идущие часы, просидел в очереди всего минут сорок.
Уж кого на нашем советском свете бабы ненавидят люто, то это парикмахерши мужиков, которые под обыкновенную «канадку» стригутся: сорок копеек и никакого навару.
Оттомился в предбаннике. Наконец сажусь в кресло к этакой обаяшке в кудряшках. Она вяло грязную удавку-простыню мне на шею набрасывает и одновременно тестует соседку-мастера. (Мне, некстати говоря, очень приятно бывает, когда я вспоминаю, что капитана тоже величают «мастером».)
Ну– с, тест парикмахерша соседке-мастеру задает такой: «Что такое пони?»
Та бурчит, что про пони не слышала, но вот ножницы у нее тупые, а дядя Вася-точильщик давно не приходил, опять запил, верное дело…
Моя мастерица начинает поигрывать моей головой кроваво наманикюренными пальцами, наклоняя и отклоняя башку в разные – бессмысленные, с моей точки зрения, – стороны. А ведь дело тут в том, что толкнуть чужую башку «в любую сторону твоей души», как Окуджава поет, большое удовольствие: власть, власть, власть – она самая!…
Толкает она мою башку и объясняет тупице-соседке, что пони – это смесь коня с ослом. Я сразу лезу не в свое корыто – это у меня с раннего детства – и объясняю, что смесь коня с ослом называется мул. Она, ясное дело:
– Я не с вами говорю, помалкивайте! – и щелкает ножницами уже у меня в ухе, а не на черепе.
Но я-то давно привык на опасность идти грудью -меня ножничными щелчками в каком-то там ухе не напугаешь. А моя мастерица продолжает вразумлять соседку в том, что пони не имеет шерсти и потому не способна к продолжению рода, так как она есть противоестественная помесь лошади и осла.
Я говорю, что пони – маленькая лошадка, их в русских цирках и английских парках пруд пруди, и что все они, как и ослы, покрыты шерстью. Моя мастерица начинает заинтересовываться моей эрудицией и говорит:
– Я лично ни одного осла в жизни не видела.
Я говорю, что она опять ошибается, ибо в этот вот самый момент видит перед собой самого натурального осла.
– Вы кого в виду имеете? – спрашивает мастерица.
Я говорю, что пусть она посмотрит в зеркало – там и сидит настоящий, стопроцентный осел, то есть ее покорный клиент.
– Какой вы осел, если у вас такой пиджак дорогой, – говорит она.