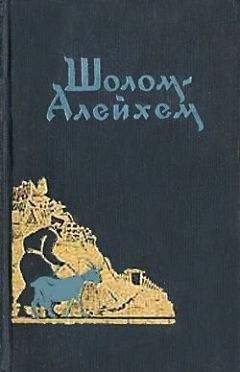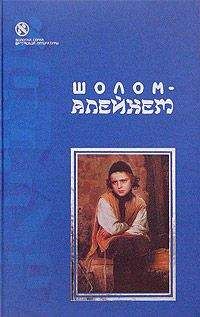Единственное, что связывало Шолома с училищем, был его друг Эля, которого он искренне любил за живой нрав, уменье совершенно артистически имитировать и изображать учителей. Вместе они проказничали, вместе читали книги, жили, как говорят, в свое удовольствие вдали от остальных школьных товарищей. В то время как те готовились к экзаменам, дрожали, боялись провалиться, Шолом Рабинович и Эля плевали на все и об экзаменах даже не думали.
Лето, на земле сущий рай. Лучшее время для купанья, для катанья на лодке далеко-далеко, вдоль высокого зеленого камыша у противоположного берега. Там, за рекой, поляна, усыпанная белыми и красными маргаритками, а дальше за поляной лесок, вернее настоящий лес. Пуститься во весь опор через поляну, добежать, не переводя дыхания, до самого леса – дело нешуточное. Кто из них раньше добежит? А добежав, оба, задыхаясь, бросаются в зеленую пахучую траву и лежат на животе, ковыряют сырую песчаную землю, где копошится мушка, разгуливает жучок, ползет муравей, таща за собой соломину, кусочек коры или сосновую иглу. Кругом тишина необычайная; благодатная, усыпляющая тишина. Изредка она нарушается щебетом ласточек, которые проносятся низко над головой, – это к дождю; а то из-за далеких камышей доносится сиротливое кваканье одинокой лягушки – «ква!» – и умолкло, это тоже к дождю, хоть небо чисто и ясно, ни пятнышка на горизонте. Ощущаешь какую-то близость с этим вот лесом, полем, с маргаритками, влажной землей, с ароматными травами, с мушкой, жучком, ползущим муравьем, с летающими ласточками, с квакающими лягушками, со всей окружающей природой; в отдельности все это – лишь частичка вселенной, а вместе, и люди в том числе, это один мир, одна семья, одно целое. И все движется, хлопочет, шуршит, шумит – настоящая ярмарка, и мир этот называется «жизнью».
Оба товарища чувствовали себя прекрасно в этом мире. Оба были довольны своей жизнью, не жаловались на прошлое, рады были настоящему и ждали еще лучшего от того, что впереди. Они вели тихую, мирную и бесконечную беседу, разговор без начала и конца. Большей частью беседа вертелась вокруг их будущего. Они составляли планы, строили воздушные замки и рисовали себе ту многообразную и красочную жизнь, которая обычно представляется воображению каждого молодого человека и которая никогда не бывает таковой в действительности…
Засиживаться здесь, однако, нельзя. Время не ждет. Экзамены все же не пустяковое дело. Хотя они в классе идут первыми, но мало ли что бывает – проваливаются и первые. Один только человек ни в чем не сомневался – это был «Коллектор».
– Какие там экзамены! Что им экзамены! Чепуха! – говорил «Коллектор», который дела Шолома принимал к сердцу ближе, чем родной отец. Поэтому никто не обрадовался так, как «Коллектор», приятной вести о том, что Шолом и его товарищ Эля от экзаменов совсем освобождены.
– Слава богу! Мы свободны, свободны от экзаменов!
Давайте пировать! – воскликнул «Коллектор».
С большой радости он в тот же день к вечеру притащил «сорванцу» на квартиру селедку и две французские булки, а в кармане бутылку водки, и они втроем с поэтом Биньоминзоном отпировали на славу. На Биньоминзона, как он сам выразился, нашло вдохновение, и он тут же на месте сочинил гимн: «Победителю третьего воспоем славу!»
Под «третьим» подразумевался третий, и последний, класс училища. Тут возник новый вопрос: как быть дальше, какую выбрать дорогу? На сцене опять появились все наши старые знакомые: оба «удачных зятя», Арнольд из Подворок и все прочие добрые друзья и приятели, каждый со своим советом: гимназия, школа казенных раввинов, университет, карьера врача, адвоката, инженера. Отец был сбит с толку: столько путей, профессий, специальностей – голова кругом идет!
Из всех проектов остановились на одном: на Житомирском учительском институте, куда на казенный счет обещали принять двух отличных учеников – Шолома и Элю. Были уже отправлены бумаги в Житомир, директору института Гурлянду. Для большей верности Шолом приложил к своим бумагам письмо лично от себя, написанное великолепным, изысканным слогом на древнееврейском языке, для того чтобы показать директору Гурлянду, что он имеет дело не с каким-нибудь мальчишкой. «Коллектор» был вне себя от радости.
– Благословен бог-избавитель! – сказал он и протер мокрой полой свои темные очки (без очков лицо «Коллектора» выглядело опухшим, а веки были похожи на подушечки), – сорванец уже пристроен. Это дело верное, иметь бы мне такой же верный заработок. Кем бы он ни стал, учителем или казенным раввином – человеком он уже будет. Это точно! И от призыва мы тоже гарантированы. Учителей и казенных раввинов в солдаты не берут. Осталось только сосватать хорошую невесту из приличного дома с каким-нибудь полуторатысячным приданым – и все будет в порядке. Велите же, реб Нохум, подать бутылочку «Церковного для евреев»!..
Однако «Коллектор» радовался преждевременно. Случилось вот что.
Ни одно из дел, за которые брался Нохум Рабинович, не давало достаточно средств к жизни. Но вот нашелся разбогатевший кулак Захар Нестерович, который был о Рабиновиче чрезвычайно высокого мнения, и сдал ему помещение под лавку и погреб в своем большом новом каменном доме, помог открыть торговлю табаком, гильзами и папиросами; сюда же перенесли и винный погреб «Разных вин Южного берега». Все это стало приносить немалый доход. Дом Нохума Рабиновича, как вы помните, всегда был чем-то вроде клуба, местом, где собирались молодежь и всякого рода просвещенные люди. Теперь этот «клуб» еще более оживился, его стали еще чаще посещать друзья, знакомые и даже случайные покупатели. Кто располагал свободной минутой и хотел повидать людей, узнать, что делается на белом свете, – заходил в «табачную» выкурить папиросу и потолковать о том о сем
Однажды в «клубе», или в «табачной», собрались сливки переяславской интеллигенции. Тут были все наши знакомые: Иося Фрухштейн, оба «удачных зятя», Арнольд из Подворок, а также, разумеется, «Коллектор» в черных очках, поэт Биньоминзон и их юный друг Шолом. Шел оживленный разговор, поминутно прерываемый общим хохотом. Рассмешил всех один из «удачных зятьев» Лейзер-Иосл. Он требовал от присутствующих пустяка – пусть каждый потрудится объяснить смысл слова «массивность» без помощи рук. Но так как для еврея объяснить такую вещь без помощи рук дело совершенно невозможное, то каждый по-своему показывал руками значение слова «массивность». Вот это-то и вызывало хохот.
Внезапно, в самый разгар веселья, отворилась дверь, и вошел почтальон с заказным пакетом. На конверте было напечатано крупными буквами по-русски: «Канцелярия Житомирского еврейского учительского института».
– Ага, это от него, от Гурлянда!..
Пакет вскрыли и прочитали письмо директора Гурлянда. Письмо было такого содержания: «Ввиду того, что курс обучения в институте четырехлетний, а из бумаг и метрики явствует, что обладатель их родился 18 февраля 1859 года, следовательно он в 1880 году – всего лишь через три года в октябре должен будет явиться на призыв, то есть за год до того, как закончит курс в учительском институте».
Письмо это было подобно разорвавшейся бомбе, грому среди ясного неба. Все заспорили, начали истолковывать смысл письма: как все это понять, почему Гурлянд не сделал ясного вывода? Нет ли средства, какой-нибудь за-ковыки, чтобы выпутаться из создавшегося положения? Напрасны были, однако, все дебаты и споры. Было ясно, что игра проиграна, на поступление в институт шансов никаких. Метрики не переделаешь, а Гурлянд не такой человек, который пойдет на уступки. Пропало!
Герою нашей повести то время представляется как бы переходом из одного существования в другое: предстояло выбрать себе дорогу, выработать план действий, определить, так сказать, программу всей жизни. Между ним и его другом Элей было давно условлено, что они вместе поедут в Житомир, будут жить в одной комнате, вместе учиться, гулять, купаться, кататься на лодке… А когда наступят каникулы, они вместе поедут домой, и тогда-то они поразят товарищей своей житомирской формой, станут держаться в стороне от всех, говорить о Пушкине, Лермонтове, о Байроне и Шекспире, громко – пусть слышат и знают, что они не какие-нибудь сопляки… Товарищи будут прислушиваться к их разговорам, удивляться и завидовать. Девушки, стреляя глазками и краснея, станут, будто застегивая перчатки, вертеться возле них, чтобы завести знакомство – словом, рай земной!
И вдруг мечты лопнули, как мыльный пузырь. Ни Житомира, ни института, ни купанья, ни катанья на лодке, ни каникул, ни девушек, никакого рая – с карьерой покончено! На отца жалко было смотреть! Он пожелтел как воск; новые заботы, новые морщины, и снова вздохи: «Господи, что делать? Как быть?» И поэту Биньоминзону стало не по себе; ему хотелось утешить Шолома хотя бы новой песней, но, увы, не поется!
«Коллектора» что-то вовсе не видно. Он раза два показался, сказал, что у него есть для «сорванца» великолепный план, который на всю жизнь обеспечит его самого, его детей и даже внуков, но, к сожалению, «Коллектору» сейчас некогда. Он ушел, и с тех пор о нем ни слуху ни духу.