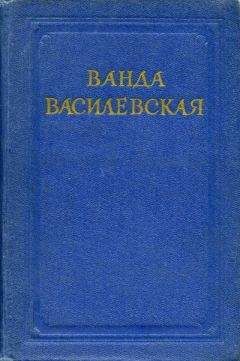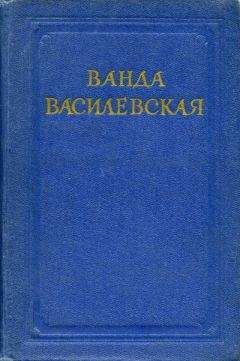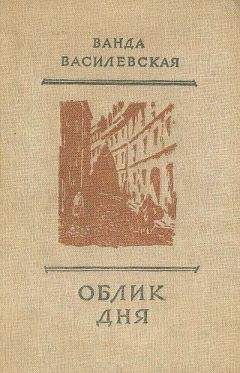Олексиха оглянулась, словно в поисках жертвы, и набросилась на Овсеенко…
— А вы что? Сидите — и никаких? Не слышите, что делается! Это называется советская власть — у бедняка забрать и попу в глотку пихнуть?
— Прошу успокоиться, — сурово сказал Овсеенко, вставая. Не глядя в ту сторону, где он чувствовал присутствие Хмелянчука, он официальным тоном объявил:
— Есть предложение отдать конфискованную в свое время землю попу, принимая во внимание тяжелое материальное положение, в котором он находится. Кто за это, прошу поднять руку.
Лучук вскочил:
— Откуда взялось такое предложение? Кто его вносил? Не было такого предложения!
— Недопустимое дело! — вспыхнул Петр, до сих пор молчаливо сидевший в углу. Овсеенко взвился, как пришпоренный.
— А вы меня не учите, что допустимо, что не допустимо. Никто здесь учить меня не будет! Я веду собрание, а не вы! Прошу голосовать!
Шум в комнате все усиливался. Крестьяне были совершенно сбиты с толку:
— Что ж вы не поднимаете руку?
— А за что теперь, — за то, чтобы отдавать или чтобы не отдавать?
— Чтобы отдать.
— Да что вы говорите! Сначала голосуют те, кто не хотят.
То тут, то там неуверенно поднялись руки. Батраки стали топать ногами:
— Никаких голосований! Не будем голосовать!
— Нищие! — бросила им в лицо Мультынючиха. Кто-то уже кинулся в драку. Овсеенко тщетно пытался перекричать всех:
— Товарищи! Спокойно!
— Как же, будет тебе спокойно! Смотрите, какой!
— Уже снюхался с попом!
— Я с вами иначе поговорю! — заорал взбешенный Овсеенко, уже совершенно не владея собой. — Я вам покажу, где вы находитесь!
— Мы-то знаем, где находимся, — у себя, в Советах! — крикнул Лучук.
— Нечего нас пугать!
— Сам в тюрьму сядешь!
— Зови кого хочешь! Тебя первого заберут!
— Мы-то не боимся!
Хмелянчук, Рафанюк и несколько их тайных союзников потихоньку убрались с собрания. Овсеенко остался один перед разъяренной толпой мужиков и баб. Они напирали на него все решительнее. Выкрикивали ему прямо в лицо все, что у них наболело в сердце за последние месяцы. Плотина прорвалась. Мужики теперь громко кричали о том, что до сих пор передавали друг другу лишь шепотом, по секрету.
— На девок своих в Синицах кричи, а не на нас!
— Сколько тебе поп заплатил, что ты так за него стараешься?
Овсеенко понял, что ему не совладать с разбушевавшейся толпой. Он грохнул кулаком по столу:
— Закрываю собрание!
Он одним движением смахнул со стола бумаги, поспешно вышел в свою комнату и заперся на ключ. Из зала еще некоторое время слышался шум выходящей толпы. Жарко препираясь, все направились к деревне. Кое-кто, остыв на свежем воздухе, вновь обрел рассудительность.
— Может, оно и не стоило так говорить…
— Ну да! Ты же сам выскочил с этими девками в Синицах.
— Мало ли что человек в сердцах скажет…
— А что, может, это неправда?
— Правда-то правда, ты и сам знаешь, что правда. Только вот за правду-то бьют…
— Не те времена! Имеем полное право!
— Кто его знает, что он теперь сделает?
— А ты уж и труса праздновать?
— А чего тут трусить? Так только говорю…
Лучук напирал на Петра:
— А ты, Петр, что думаешь? Долго мы будем смотреть на то, что здесь творится?
Петр угрюмо молчал. Лучук ударил его по плечу:
— Эх ты! Надо взяться за это как следует! Поедем-ка в Паленчицы.
— Я?
— Ясно — ты. Хватит уж, парень, возьми-ка себя в руки.
— Хорошо тебе говорить…
— Хорошо ли, плохо ли, а я тебе скажу, что за этого Овсеенко следовало бы тебе по шее надавать!
— Мне?
— А кому же еще? Преспокойно смотришь на все, будто тебя и не касается…
— А ты слышал, что мне Овсеенко сказал тогда, на выборах в сельсовет?
— Скажите, какой деликатный! Когда тебя прикладами в тюрьме лупили, ничего было, а теперь…
— В тюрьме прикладами… — глухо сказал Петр. И снова все прежнее всплыло в его памяти. Тюремная камера, отчаянное упорство: выдержать, не сдаться! И гордое сознание, что хотя ты одиноко стоишь перед стеной врагов, хотя ты лишь попранный, окровавленный, избитый человек в цепях, но за собой ты чувствуешь не только свою волынскую деревню, но и полыхание красных знамен, гордую песню, рвущуюся к небесам, и далекую, но родную землю — от Збруча до камчатских берегов, мощную и прекрасную родину, которую ты в этот момент представляешь, чье доверие нельзя не оправдать, которой нельзя изменить ни под какими пытками. А тут вдруг из-за одного слова, сказанного. Овсеенко, всякий мог смотреть на него с недоверием, с сомнением, даже с подозрением. И он снова почувствовал, что его сердце наполняется горечью, что его одолевает слабость.
— Ты, брат, возьми себя в руки, — говорил Лучук, искоса поглядывая на потемневшее лицо Петра. — Надо с этим покончить.
— Да, да, верно, — машинально повторял Петр. — Ладно, поедем в Паленчицы, — решил он. — Расскажем все.
— Ну, видишь, — обрадовался Лучук.
Но они не успели поехать. К вечеру того же дня сквозь снежные сугробы пробилась автомашина и остановилась возле хаты старосты. В глубокий снег выскочил Гончар, а за ним еще трое. По Ольшинам словно электрическая искра пробежала.
Оказалось, что они все знают. Они разговаривали с Семеном, со старостой, с Совюками, с Лучуком. Говорили с Паручихой, с Макаром, и под ясным взглядом Гончара языки у людей развязались. Они ведь знали его — свой человек, с ним можно говорить. Петр видел, как из деревни в усадьбу вереницей потянулся народ, и сам несколько раз переступал порог хаты, чтобы пойти туда. Но всякий раз его будто что-то не пускало. Зачем лезть опять? Чтобы еще раз услышать то же самое? Теперь и так все будет в порядке, раз уж за это взялись.
Заревел мотор, но в тот вечер уехали лишь один из прибывших и Овсеенко. Гончар с остальными остался пока в деревне.
А деревня была полна слухами, новостями.
— Всё знают! А я им еще порассказал, что знал, — говорил Макар.
— И про Синицы, и про цемент, и про лес…
— И про выпивки с Хмелянчуком.
— И о поповской земле…
Утром грянула весть, что арестовали и увезли в Паленчицы Хмелянчука. Мультынючиха сейчас же побежала к его жене, но та ни о чем не хотела рассказывать.
— Разве я знаю? — всхлипывала она, шмыгая носом. — Пришли, говорят, — собирайся. Он и собрался… Боже ты мой, боже, что же это творится на белом свете? Разве мой-то дурное что делал? Обидел он кого? За что это, боже милостивый, за что?
Мультынючиха повертелась немного в кухне и понеслась в деревню к Рафанюку. Но тот не захотел ее даже в хату впустить.
— Хвораю нынче чего-то, даже и говорить неохота… Идите, идите с богом!
— Да ведь что делается-то! Подумайте только…
— Не любопытно мне это знать, вот нисколько не любопытно! — отчаянно замахал он рукой. — Какое мне дело до этого?
Стрелой примчалась весть, что в Синицах арестованы Вольский и мясник. Паручиха торжествовала.
— Есть еще правда на свете! Кончилось их времечко, кончилось! Не говорила я разве, что кончится?
— Ничего ты не говорила, — отрезала Олексиха.
Паручиха пожала плечами.
— Говорила я, что раз советская власть, то она советская! Узнать бы только, заберут попа или нет?
Эта проблема интересовала всех. Все поглядывали на поповский дом, но там все было тихо.
— Кто его знает? Может, и не тронут.
— Отца Пантелеймона-то, — волновалась Мультынючиха, — божьего человека! Неужто и его обижать?
В течение нескольких дней всем стало известно: арестованы Хмелянчук, Вольский и мясник. Обнаружилась крупная афера с лесом и цементом, в которой был замешан и Овсеенко. Чтобы покрыть злоупотребления, он использовал свой авторитет, доверие, которым население встретило человека, приехавшего из восточных областей помочь здесь в организационной работе.
Поп присмирел и никуда не показывался. Часто бабы, которые теперь уж из одного любопытства бегали отнести ему несколько яиц или кружку молока, заставали дверь запертой. Попадья не открывала, хотя она наверняка была дома, — куда ей деваться? И бабы, постояв немного, возвращались домой не солоно хлебавши.
На третий день Гончар зашел к Петру.
— Сам не приходишь, так я к тебе собрался.
— А что? — смутился Петр.
— Надо поговорить. Видишь сам, наделали тут глупостей, теперь надо как следует взяться за работу.
— Ты с этим ко мне? — тихо спросил Петр.
— Да вот к тебе. Ты же коммунист, в тюрьме сидел, так что следовало бы теперь взяться за работу.
— За работу…
У Петра перехватило горло. И вдруг словно лопнул обруч, сжимавший ему сердце. У него дрожали руки, слезы сдавливали горло. Голос прерывался. Он хотел высказать все, излить, наконец, всю горечь, все обиды, все думы долгих дней и одиноких, мучительных, бессонных ночей… Рассказать про тюрьму, и ожидание, и страшный путь из тюрьмы, и дух захватывающую радость, когда загорелись красные знамена.