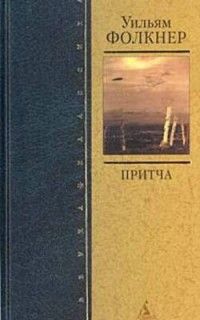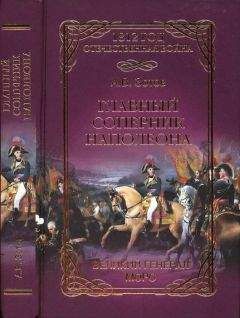— Можешь закрыть… — сказал он. И замер. Казалось, он не предугадал этот шум, а знал о нем заранее, он был уже неподвижен, когда в окно ворвался пронзительный далекий вопль — теперь уже не рассеянный, а несущийся из локального источника, локального даже в движении, словно вопль был обращен yа конкретный, медленно отступающий объект не крупнее человека, и не распространялся, а следовал за ним, — не повернулся снова к окну, а просто застыл возле него. Внезапно на Place зацокали копыта, конный отряд пересек ее рысью, а на бульваре, ведущем к старым городским воротам, перешел в галоп. Потом показалось было, что топот копыт влился в крик, утонул в нем, и вдруг всадники словно бы ворвались в него, будто в невесомую массу сухих листьев, взметая, расшвыривая, рассеивая их, и секунду спустя вынеслись, словно кентавры, яростным, беззвучным галопом, единые в едином зримом облаке вьющихся отчаянных вскриков, продолжающих кружиться, мелькать в этом легком, неистовом вихре, когда всадники уже наверняка должны были скрыться, вскрики все еще порхали, мелькали в неслаженном диминуэндо, когда раздался другой шум. Он был глуше и доносился с равнины за городом отнюдь не как звук, а как свет: мужские, напоминающие хорал, голоса становились не громче, а яснее; словно заря, заливали низкий горизонт за высящейся черной громадой города не шумом, а светом; над ним и в нем кружились и гасли, словно искры над водой, более близкие, тонкие истеричные вопли, — и даже когда они прекратились, он все еще заливал горизонт низким гулом, звучным, как блекнущий закат, и холодным, как рассвет; на его фоне черный громадный город словно бы устремлялся в едином застывшем реве от неистово мчащейся земли к ее неистово клубящейся пыли, вздыбленный и бесчувственный, словно нос железного корабля среда неподвижных, бесчувственных звезд.
Старый генерал отвернулся от окна. Створка двери была распахнута на три фута, возле нее стоял, не навытяжку, просто стоял, старик. Чуть повыше ребенка, не сутулый, не сгорбленный, и ссохшимся его тоже нельзя было назвать. Он был плотным, невредимым и неувядшим; долгий эллипсоид его жизни уже почти вернулся к исходной точке, где он, румяный и безгрешный, без памяти и зова плоти, хнычущий, лысый и беззубый, снова будет обладать лишь желудком, несколькими кожными нервами, чтобы ощущать тепло, несколькими мозговыми клетками доя сна и не нуждаться больше ни в чем. Солдатом он не был. Толстая пехотная шинель, стальная каска и винтовка за спиной лишь придавали ему еще более невоинственный вид. Сейчас на нем были очки, линялый китель, тщательно вычищенный и отглаженный подслеповатым человеком, очевидно, снятый с трупа первого (или последнего) владельца: на месте споротых полковых номеров и сержантских нашивок сохранились темные пятна, а на груди, чуть повыше места, где сходятся лацканы, была аккуратно заштопанная прореха, видимо, от штыка, — после чистки и санобработки со склада списанных вещей, блестящая стальная каска и блестящая винтовка, которую, судя по виду, любовно чистили и берегли, будто копье двенадцатого века из частного музея; он никогда не стрелял из нее, не звал, как нужно стрелять, не стал бы стрелять и даже не взял бы патрона, если бы во всей французской армии кто-то мог предложить ему патрон. Он был денщиком старого генерала уже более пятидесяти лет (из них выпадали тринадцать, более сорока лет назад старый генерал, тогда еще капитан с блестящим, почти невероятным будущим, исчез не только из армейских списков, но и из круга людей, до тех пор считавших, что знают его хорошо, и тринадцать лет спустя снова появился в армейских списках со званием бригадного генерала, никто не знал, откуда и почему, хотя относительно звания все было ясно; и генерал первым делом принялся разыскивать своего старого денщика, ставшего продавцом военной лавки в Сайгоне, чтобы вернуть ему прежнюю должность и чин); румяный, как младенец, лишенный возраста и безмятежный, в ореоле неукротимой преданности, неодолимо упрямый, неисправимо самоуверенный и самоуправный, не принимающий советов, предложений и замечаний, упорно презирающий войну и все ее последствия, неизменно и непогрешимо надежный, независимый и почти утонувший в своем воинственном облачении, очень похожий на старого слугу в древнем герцогском доме, ритуально одетого по случаю годовщины какого-то прискорбного или достославного события, произошедшего в Доме так давно, что слуги забыли его смысл и значение, если только вообще знали их; он стоял у двери, пока старый генерал, возвратясь к столу, не сел снова. Тут старый денщик повернулся, вышел и тут же появился с подносом, на котором были простая суповая миска из сержантской или даже солдатской столовой, маленький глиняный кувшин, горбушка хлеба, старая оловянная ложка и аккуратно сложенная камчатная салфетка, поставил поднос на стол перед маршалом и, сверкнув безукоризненно вычищенной винтовкой, поклонился, выпрямился и отошел назад, старый маршал взял хлеб и под любовным, властным, упорным взглядом денщика стал крошить его в миску.
Поступив семнадцатилетним юношей в Сен-Сир, он, казалось, помимо тех благ, которых не мог избежать даже там, взял из блестящего, оставленного за воротами внешнего мира только медальон — маленькую, старую гравированную золотую безделушку, видимо, драгоценную или, во всяком случае, почитаемую, похожую на карманные часы и, очевидно, способную вместить два портрета, лишь способную, так как никто из сокурсников ни разу не видел медальон открытым; собственно, они узнали о его существовании лишь потому, что кто-то случайно увидел в ванной медальон, свисающий на цепочке с его шеи, словно распятие. И даже столь скудная осведомленность была вскоре заслонена значительностью той судьбы, от которой его не могли оградить даже эти ворота, — он был не только племянником министра, но и крестным сыном председателя правления громадной международной федерации, производящей боеприпасы, подходившие с небольшой разницей в маркировке, выбитой на снарядных и патронных гильзах, почти к каждой винтовке, каждому пистолету и каждому легкому орудию во всем западном полушарии и в половине восточного. И все же из-за одинокого и поднадзорного детства до поступления в академию мир за пределами предместья Сен-Жермен почти не видел его, а мир, начинавшийся с парижской banlieue[22], ничего не слышал о нем, разве что только фамилию. Он был сиротой, единственным ребенком, последним мужчиной рода и с младенчества рос в мрачном, стоящем особняком на улице Вожирар доме старшей сестры матери жены министра, человека, отличавшегося лишь безжалостным и безграничным властолюбием; он нуждался в возможности продвинуться, получил ее благодаря деньгам и связям жены, и — они были бездетны — законным образом усыновил ее семью, прибавив ее фамилию через дефис к своей; до возмужания ребенок рос наследником не только дяди, но и власти, богатства холостяка крестного, председателя Comite de Ferrovie, ближайшего друга покойного отца, но пока никто, кроме сен-жерменского салона тетушки, их слуг и его учителей не мог связывать его судьбу с прекрасной обеспеченностью и баснословным будущим.
Таким образом, до поступления в академию никто из сокурсников, с которыми ему предстояло провести четыре года (возможно, из преподавателей и профессоров тоже), никогда не видел его. И, видимо, он провел там двадцать четыре часа, прежде чем кто-либо, кроме одного, связал его лицо с его знаменитой фамилией. Этот один был уже не юношей, а двадцатидвухлетним мужчиной, он поступил в академию двумя днями раньше и в день выпуска оказался на втором месте после него, в тот первый день он поверил и продолжал верить еще пятнадцать лет, что сразу же разглядел на семнадцатилетнем лице предначертание судьбы возродить (шел 1873 год, прошло два года после капитуляции и кратковременной оккупации Парижа) славу и будущность Франции. Что до остальных, их реакция была реакцией внешнего мира: удивление, изумление и на миг полное неверие, что он, этот юноша, находится здесь. Причиной этому была не внешняя хрупкость и слабость; они просто приписали ему хрупкость и слабость, поэтому с того первого мига, когда он, казалось, не входил в ворота, а неподвижно стоял в них, за ним закрепилась репутация совершенно и безнадежно никчемного для этой обнесенной каменным бастионом железной утробы военного обучения, как фигура с церковного витража, по необъяснимой случайности вделанная в проломленную стену форта. Они считали так, потому что для них он был человеком счастливой судьбы, наследником райской короны. Для них он был не просто счастливчиком он был счастливчиком из счастливчиков; для всей академии и для всего мира, простиравшегося от парижской banlieue до той черты, где кончался Париж, он был даже не просто парижанином, а парижанином из парижан: миллионер и аристократ по рождению, сирота и единственный отпрыск, законный наследник не только несметного богатства, размеры которого были известны лишь банкирам и адвокатам, чьей задачей было охранять, беречь и увеличивать его, но и громадного могущества и влияния дяди, первого члена Кабинета, хотя этот титул и звание принадлежали другому, и крестного отца, чье имя открывало такие двери, которые из-за тайных связей и обязательств (председатель Comite de Ferrovie) или пола их обладательниц (холостяк) не мог открыть даже имя министра; ему нужно было лишь совершеннолетие, чтобы унаследовать несравненное несчастье — привилегию прожигать свою жизнь — или, если угодно, сокращать ее, пользуясь несравненными благами; он был молодым, неженатым, знатным, богатым, беззаботным по праву рождения, парижанином — жителем столицы, представляющей собой целый мир, потому что она была величайшей из всех столиц, о ней мечтали и ее обожали все — и не только когда она была величайшей в своей гордости, но и теперь, когда была унижена в ней. В самом деле, никогда о ней так не мечтали, никогда ее так не обожали, как теперь, в дни унижения, никогда — из-за того, что для любого другого города было бы унижением. Никогда эта столица не была, как теперь, Парижем не Франции, а всего мира, осквернение было не только частью обожаемого бессмертия и безупречности и потому неотделимо от них, но и, поскольку столь блестящая униженность была недоступна другим столицам, оно делало ее всемирным Парижем; покоренная — или, скорее, непокоренная, потому что как французский Париж она была нетронута, свободна от той железной пяты, под которой вся остальная Франция (и поскольку эта столица была всемирным Парижем, весь остальной мир тоже) лежала распростертой и униженной, — неприступная и свободная, желанная, для всего цивилизованного мира нетронутая и вечно беспутная, — девственно бесплодная и ненасытимая — любовница, вновь утверждающая свою бесплодную непорочность каждым актом неслыханной неразборчивости, Ева и Лилит для каждого, испытавшего в юности блаженство и счастье быть допущенным в сферу ее жадной ненасытности; сам победоносно вторгшийся гунн, ошеломленный не столько своим успехом, сколько своим неожиданным и невероятным местонахождением, шаркающий своими стоптанными сапогами в надушенной передней, мечтал о ней не меньше, чем рожденный с этим несравненным жребием, кому сама бессмертная эта столица даровала краткую божественность бессмертия в обмен лишь на его цветущую юность.