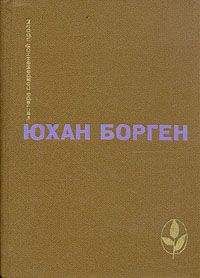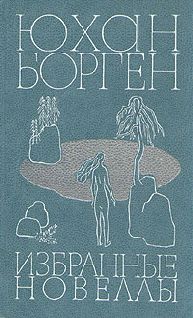Вилфред медленно встал. Кристина последовала его примеру, торопливо собирая разбросанную одежду. Она проворно управилась со своим сложным туалетом, он же, совершенно голый, каким вышел из рук создателя, подошел к портрету отца, подставляя свою наготу его грешному, пронзающему взору. Но в этом взоре не было иронии, которая всегда наготове у взрослых. И уж во всяком случае, в нем не было осуждения и невысказанных попреков.
Радостно обернулся он к Кристине и ощутил нежность, впервые вытеснившую его горькую потребность самоутвердиться. Хлопнула входная дверь. Это вернулась Лилли. Вилфред тотчас узнал ее шаги и хотел было успокоить Кристину, но она подняла руку в знак того, что сама все поняла.
– Твоя мама может вернуться в любую минуту, – беззвучно произнесла она.
Он взглянул на часы. Прошел час. Впервые открылась ему головокружительная загадка времени – оно внутри человека, в крови, и только там.
– Да нет, вряд ли, – беспечно ответил он. – Мама просто упоена праздником, одно удовольствие было на нее смотреть.
Он без всякого стеснения одевался, продолжая разговаривать. Во всех его движениях было спокойствие многоопытности. Они поцеловались, стоя перед портретом отца, и оба одновременно оглянулись на него. Лучи солнца уже ушли с полотна. Теперь оно было погружено во тьму, еще более подчеркнутую соседством яркого блика на стене. Словно человек на портрете в нужную минуту сказал свое слово и удалился. Вилфред схватил холст и повесил его на стену, где он висел всегда.
– Я пойду, – шепнула она. – Одна.
– Я буду ждать тебя на углу, у кондитерской.
– Нет. Я хочу пройтись. Далеко-далеко. И одна.
– Далеко-далеко. И со мной.
– Одна – слышишь? До свиданья, Вилфред, милый.
Он стоял возле узкого окна прихожей и смотрел, как она идет по аллее. Теперь она уже не казалась обездоленной и одинокой; она шла легкой, быстрой походкой. Вот она свернула за угол. Вилфред ощущал сладость бытия. Долго еще стоял он и глядел на пустую аллею, удерживая в памяти образ Кристины, такой, какой он ее видел: в шляпке с незабудками, в накидке, ступающую легкими шагами, хранившими его тайну. Так он и стоял возле узкого окна, глядя, как спустились сумерки, как вспыхнули фонари. Так он и стоял, пока на аллее не показалась его мать.
– Ничего не случилось? – спросила она, когда он помогал ей раздеться.
– Почему ты спрашиваешь? Я все время был дома. Ну, как ты провела время с французами? Приятно было?
– Я так волновалась. Наверное, приятно, сама не знаю. Боюсь, что я уже стара для таких развлечений.
– Чепуха, мама! Ты говоришь это только для того, чтоб я сказал, что ты еще не старая.
– Ну так скажи это, скажи поскорее!
Они стояли друг против друга, мать и сын, как много раз, как всегда, и играли в старую игру: великосветская дама и ее эрзац-кавалер, как выражался дядя Мартин.
– Ты была самой красивой из всех дам в Эттерстаде, – сказал он и, обняв ее за талию, повел в комнату. – Шампанское лилось рекой?
– Глупости! – сказала она. – Кристина была красивее. Все были красивее меня. Нет, они пьют мало. Летчик вообще трезвенник. Зато говорили, говорили без конца, я за ними не поспевала, совсем отвыкла от французского.
Счастливые, умеющие забывать, стояли они друг против друга. Опять ловкие слова, которые так легко приходят на язык и так легко забываются, опять эта спокойная, тихая вода, скрывающая опасные омуты. Как тяготила его в последнее время эта игра! И вдруг он заметил, что больше его ничто не тяготит. Притворяться было удивительно просто. Может, это и не притворство? Вилфред уже не ощущал себя одиноким защитником бастиона, на который посягают объединенные силы матери, дядей и школьных учителей.
– Тети Кристины не было на приеме, – сказала она. – Ее забыли пригласить, они спохватились, им стало неудобно, ей дважды звонили.
Он окинул ее быстрым взглядом. Неужто опять этот проклятый инстинкт? Ведь она же сказала, что волновалась.
– Но у Кристины нет телефона, – сказал он резко.
– Они звонили в кондитерскую. Она часто туда заходит по воскресеньям навести порядок.
– Значит, ее сегодня там не было, – сказал он. Он сам отметил излишнюю запальчивость своего тона.
– Ну, разумеется, – легко согласилась мать.
Но теперь ему захотелось выяснить, в самом ли деле существуют эти таинственные силы, передающие от человека к человеку все тайные помыслы.
– Можно было за ней послать, если уж ее присутствие было так необходимо.
Но она опять уклонилась.
– Да, конечно, – ответила она устало. – Я об этом как-то не подумала.
Что это? Ирония? В нем опять шевельнулось недоверие.
– Впрочем, может, ее и дома не было! – с вызовом заявил он.
– Не понимаю, Маленький Лорд, – сказала она, и он отметил, что она нарочно назвала его этим именем, – почему ты так горячишься…
Спокойно, спокойно, подумал он. Не искушать судьбу, ничем себя не выдать, ведь не хочет же он, чтобы она догадалась. Ведь не хочет? Ну разумеется, нет!
– Прости, – ответил он, – видишь ли, я все еще парю в небесах.
Она бросила на него беглый взгляд, словно догадываясь о двойном смысле его ответа. Ах, и зачем только придумали это слово «инстинкт», зачем его так часто повторяют. Этот «инстинкт» только все запутывает, громоздит догадку на догадку, вносит смуту в жизнь. О, если б все люди были просты и неразговорчивы, как фру Фрисаксен, как… да, хотя бы как Эрна…
– Кстати, знаешь, кто был сегодня в Эттерстаде? Эрна! Я видела ее в толпе за канатами. Все семейство явилось.
– И отец ее, конечно, объявил, что благодаря скорости аэроплана перестал действовать закон всемирного тяготения.
– Как не стыдно, Вилфред, – сказала она. – Я убеждена, что Эрна страшно тобой гордилась.
– Ну а ты, мама?
– Страшно гордилась. Но ведь ты мне еще ни слова не сказал о том, что ты чувствовал…
Опасность миновала. О Кристине больше не было речи. И Вилфреду захотелось еще чуть-чуть походить по краю пропасти.
– Что я чувствовал? – спросил он.
– Ну да, когда летал.
– А, ты об этом!
Мысли вновь потянулись к тому, о чем невозможно было забыть, и казалось, он властен своей волей вновь призвать все только что происшедшее в потемневшую комнату. Последние отблески мерцающих вод отражались в зеркале, оправленном в тусклую золоченую раму.
– Чувство это – изумительное…
– Изумительное? Но ведь тебе же было страшно!
Он глянул в зеркало. Серебристо мерцая, переливались в нем воды залива.
– Страшно? Да, страшно. Конечно, мне было страшно. Особенно подъем…
– Ну да… Подъем. А голова не кружилась?
Залив в зеркале стал серым. Значит, ушли последние лучи.
Собственное отражение в зеркале глядело на него выжидательно. И тут он увидел другое отражение – того, кто висел на стене в углу.
– Мамочка, – сказал он, – ты только не сердись, что я тебя спрашиваю. Скажи, отец, он… пользовался успехом?
Она тотчас встала и подошла к окну.
– Что ты имеешь в виду? Как это – успехом?..
– Ну, он… в общем, он нравился?
– Кому? – Голос был сух и отрывист. Она смотрела на Фрогнеркиль.
– Ну, дамам, и вообще…
Она повернулась к нему, но не двинулась с места. Белая, тонкая, стояла она в черном квадрате окна. Он не мог разглядеть, какое у нее выражение лица.
– Почему ты спрашиваешь? – сказала она.
Ему нужно было увидеть, какое у нее лицо. Он не хотел делать ей больно. Но остановиться он не мог.
– Что же в этом странного? Ты никогда ничего не рассказывала.
Она сделала было движение к нему, но осталась на месте. Казалось, будто во тьме за окном она ищет опоры, союзника. Тогда он подошел к ней.
– Я напугал тебя, мама?
– Чем же? Вовсе нет. Конечно, тебе хочется знать. Вполне понятно… Послушай, мой мальчик… – Она вдруг обняла его за шею; теперь они оба стояли лицом к окну. – Тебе кто-то говорил об отце?
– Вот именно, что нет. Ты, например, ни разу.
Они оба глядели на темную воду в последних отсветах уходящего дня. И говорили, словно стоя перед зеркалом. От этого им было не так одиноко.
– Отец твой очень нравился, – сказала она. – Людям. Дамам в том числе.
Как легко она увернулась от точного ответа. Вилфреда это задело. Она говорит с ним как с ребенком, да к тому же, конечно, втайне сердится.
– Можешь ничего не рассказывать, – сказал он обиженно и отошел от окна. Часы на камине грустно тикали, наполняя комнату тишиной. Он понимал, что ей больно. Но он не обязан об этом знать.
– Зачем же ты тогда сказала мне о стеклянном яйце? – вырвалось у него. Ему хотелось уйти. Ему не хотелось покидать поднебесье, где еще парила его душа, его тело. Ему хотелось побыть одному – больше ему ничего не нужно.
– История с мадам Фрисаксен тебе ведь известна, – сказала она.
– Ты права, мама, – ответил он. – Конечно, все это глупо с моей стороны. Да и не так уж я любопытен.