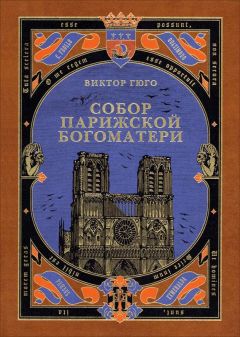— Вот дуралей! — сказал Жеан Мельник своему другу Робену Пуспену (само собой разумеется, оба школяра следовали за осужденным). — Он соображает не больше майского жука, посаженного в коробку!
Дикий хохот раздался в толпе, когда она увидела обнаженный горб Квазимодо, его верблюжью грудь, его волосатые острые плечи. Не успело утихнуть это веселье, как на помост поднялся коренастый, дюжий человек, на одежде которого красовался герб города, и стал возле осужденного. Его имя с быстротой молнии облетело толпу. Это был постоянный палач Шатле Пьера Тортерю.
Он начал с того, что поставил в один из углов площадки позорного столба черные песочные часы, верхняя чашечка которых была наполнена красным песком, мерно ссыпавшимся в нижнюю; затем снял с себя двухцветный плащ, и все увидели висевшую на его правой руке тонкую плеть из белых лоснившихся длинных узловатых ремней с металлическими коготками на концах; левой рукой он небрежно засучил рукав на правой до самого плеча. Тем временем Жеан Фролло, подняв белокурую кудрявую голову над толпой (для чего он взобрался на плечи Робена Пуспена), выкрикивал:
— Господа! Дамы! Пожалуйте сюда! Сию минуту начнут стегать Квазимодо, звонаря моего брата, архидьякона Жозасского. Чудный образец восточной архитектуры: спина — как купол, ноги — как витые колонны!
Толпа разразилась хохотом; особенно весело смеялись дети и молодые девушки.
Палач топнул ногой. Колесо завертелось, Квазимодо покачнулся в своих оковах. Безобразное его лицо выразило изумление; смех толпы стал еще громче.
Когда во время одного из поворотов колеса горбатая спина Квазимодо оказалась перед мэтром Пьера, палач взмахнул рукой. Тонкие ремни, словно клубок ужей, с пронзительным свистом рассекли воздух и яростно обрушились на спину несчастного.
Квазимодо подскочил на месте, как бы внезапно пробужденный от сна. Теперь он начинал понимать. Он корчился в своих путах, сильнейшая судорога изумления и боли исказила его лицо, но он не издал ни единого звука. Он лишь откинул голову, повернул ее направо, затем налево, словно бык, которого укусил слепень.
За первым ударом последовал второй, третий, еще, и еще, без конца. Колесо вращалось непрерывно, удары сыпались градом. Полилась кровь; было видно, как она тысячью струек змеилась по смуглым плечам горбуна, а тонкие ремни, вращаясь и разрезая воздух, разбрызгивали ее в толпу.
Казалось, по крайней мере с виду, что Квазимодо вновь стал безучастен ко всему. Сначала он пытался незаметно, без особенно сильных движений, разорвать свои путы. Видно было, как загорелся его глаз, как напружинились мускулы, как напряглось тело и натянулись ремни и цепи. Это было мощное, страшное, отчаянное усилие; но испытанные оковы парижского прево выдержали. Они только затрещали. Обессиленный Квазимодо словно обмяк. Изумление на его лице сменилось выражением глубокой скорби и уныния. Он закрыл свой единственный глаз, поник головою и замер.
Больше он уже не шевелился. Ничто не могло вывести его из оцепенения: ни льющаяся кровь, ни усилившееся бешенство ударов, ни ярость палача, возбужденного и опьяненного собственной жестокостью, ни свист ужасных ремней, более резкий, чем полет ядовитых насекомых.
Наконец судебный пристав Шатле, одетый в черное, верхом на вороном коне, с самого начала наказания стоявший возле лестницы, протянул к песочным часам свой жезл из черного дерева. Палач прекратил пытку. Колесо остановилось. Медленно раскрылся глаз Квазимодо.
Бичевание окончилось. Два помощника палача обмыли сочившиеся кровью плечи осужденного, смазали их какой-то мазью, от которой раны тотчас же затянулись, и накинули ему на спину нечто вроде желтого передника, напоминавшего нарамник. Пьера Тортерю стряхивал белые ремни плети, и окрасившая и пропитавшая их кровь капала на мостовую.
Но это было еще не все. Квазимодо надлежало выстоять у позорного столба тот час, который столь справедливо был добавлен Флорианом Барбедьеном к приговору мессира Робера д'Эстутвиля, — к вящей славе старинного афоризма Иоанна Куменского, связывающего физиологию с психологией: surdus absurdus.[94]
Итак, песочные часы перевернули, и горбуна оставили привязанным к доске, дабы полностью удовлетворить правосудие.
Простонародье, особенно времен средневековья, является в обществе тем же, чем ребенок в семье. До тех пор, пока оно пребывает в состоянии первобытного неведения, морального и умственного несовершеннолетия, о нем, как о ребенке, можно сказать:
В сем возрасте не знают состраданье.
Мы уже упоминали о том, что Квазимодо был предметом общей ненависти, и не без основания. Во всей этой толпе не было человека, который бы не считал себя вправе пожаловаться на зловредного горбуна Собора Парижской Богоматери. Появление Квазимодо у позорного столба было встречено всеобщим ликованием. Жестокая пытка, которой он подвергся, и его жалкое состояние после пытки не только не смягчили толпу, но, наоборот, усилили ее ненависть, вооружив ее жалом насмешки.
Когда было выполнено «общественное требование возмездия», как и сейчас еще выражаются обладатели судейских колпаков, наступила очередь для сведения с Квазимодо множества личных счетов. Здесь, как и в большой зале Дворца, сильнее всех шумели женщины. Почти все они имели на него зуб: одни — за его злобные выходки, другие — за его уродство. Последние бесновались пуще первых.
— Антихристова харя! — кричала одна.
— Чертов наездник на помеле! — кричала другая.
— Ну и рожа! Его наверное выбрали бы папой шутов, если бы сегодняшний день превратился во вчерашний! — рычала третья.
— Это что! — сокрушалась старуха. — Такую рожу он корчит у позорного столба, а вот если бы взглянуть, какая у него будет на виселице!
— Когда же большой колокол хватит тебя по башке и вгонит на сто футов в землю, проклятый звонарь?
— И этакий дьявол звонит к вечерне!
— Ах ты, глухарь! Горбун кривоглазый! Чудовище!
— Эта образина заставит выкинуть младенца лучше, чем все средства и снадобья.
А оба школяра — Жеан Мельник и Робен Пуспен — распевали во всю глотку старинную народную песню:
Висельнику — веревка!
Уроду — костер!
Оскорбления, брань, насмешки и камни так и сыпались на него со всех сторон.
Квазимодо был глух, но зорок, а народная ярость выражалась на лицах не менее ярко, чем в словах. К тому же удар камнем великолепно дополнял значение каждой издевки.
Некоторое время он крепился. Но мало-помалу терпение, закалившееся под плетью палача, стало сдавать и отступило перед этими комариными укусами. Так астурийский бык, равнодушный к атакам пикадора, приходит в ярость от своры собак и от бандерилий.
Он медленно, угрожающим взглядом обвел толпу. Но, крепко связанный по рукам и ногам, он не мог одним лишь взглядом отогнать этих мух, впившихся в его рану. И он заметался. От его бешеных рывков затрещало на брусьях старое колесо позорного столба. Но все это повело к тому, что насмешки и издевательства толпы только усилились.
Несчастный, подобно дикому зверю, посаженному на цепь и бессильному перегрызть ошейник, внезапно успокоился. Только яростный вздох по временам вздымал его грудь. Лицо его не выражало ни стыда, ни смущения. Он был слишком чужд человеческому обществу и слишком близок к первобытному состоянию, чтобы понимать, что такое стыд. Да и можно ли при таком уродстве чувствовать позор своего положения? Но постепенно гнев, ненависть, отчаяние стали медленно заволакивать его безобразное лицо тучей, все более и более мрачной, все более насыщенной электричеством, которое тысячью молний вспыхивало в глазу этого циклопа.
Туча на миг прояснилась при появлении священника, пробиравшегося сквозь толпу верхом на муле. Как только несчастный осужденный еще издали заметил мула и священника, лицо его смягчилось, ярость, искажавшая его черты, уступила место странной улыбке, исполненной нежности, умиления и неизъяснимой любви. По мере приближения священника эта улыбка становилась все ярче, все отчетливее, все лучезарнее. Несчастный словно приветствовал своего спасителя. Но в ту минуту, когда мул настолько приблизился к позорному столбу, что всадник мог узнать осужденного, священник опустил глаза, круто повернул назад и с такой силой пришпорил мула, словно спешил избавиться от оскорбительных для него просьб, не испытывая ни малейшего желания, чтобы его узнал и приветствовал горемыка, стоявший у позорного столба.
Это был архидьякон Клод Фролло.
Мрачная туча снова надвинулась на лицо Квазимодо. Порой сквозь нее еще пробивалась улыбка, но полная горечи, уныния и бесконечной скорби.
Время шло. Уже почти полтора часа стоял он тут, израненный, истерзанный, осмеянный, забросанный камнями.