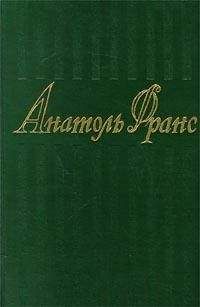Весь этот разнообразный люд толкался под знойным небом, в тяжелом воздухе, насыщенном благовониями, веявшими от женщин, запахом негров, кухонным чадом и ароматом смолы, которую благочестивые христианки покупали у пастухов, чтобы воскурить его у подножья столпа.
Спускалась ночь; повсюду зажигались огни, факелы, светильники, а толпа превращалась в смутное скопище красных теней и черных силуэтов. Посреди слушателей, присевших на корточки, стоял старик, освещенный коптящей плошкой, и рассказывал, как некогда Битиу околдовал свое собственное сердце, вырвал его из груди, бросил в акацию и сам превратился в дерево. Старик широко размахивал руками, тень его вторила этим движениям, придавая им потешную несуразность, а зачарованные слушатели испускали восторженные возгласы. В кабачках, развалясь на циновках, пьяницы требовали вина и пива. Танцовщицы с подведенными глазами и голым животом исполняли перед ними религиозные или похотливые сцены. В сторонке юноши играли в кости или в мору, а старцы под покровом темноты преследовали блудниц. Над всем этим волнующимся многообразием один только столп высился незыблемой твердыней; голова с коровьими рогами смотрела во мрак, а над нею, между землей и небом, бодрствовал Пафнутий. Вот над Нилом всплывает луна, словно обнаженное плечо какой-то богини. С холмов струится свет и лазурь, и Пафнутию кажется, будто он видит тело Таис, сверкающее в отсветах воды, среди сапфиров ночи.
Проходили дни, а праведник по-прежнему пребывал на столпе. Когда наступила пора дождей, небесные воды стали просачиваться сквозь крышу и заливать Пафнутия; руки и ноги его оцепенели, и он уже не мог двигаться. Кожа его, спаленная солнцем, растравленная росой, начала трескаться; глубокие язвы разъедали его тело. Но душа его сгорала от желания обладать Таис, и он кричал:
— Этого еще недостаточно, всемогущий боже! Еще искушений! Еще непотребных помыслов! Еще чудовищных вожделений! Господи, надели меня всею людской похотью, дабы я искупил ее всю! Если и неправда, что некая спартанская сука приняла на себя все грехи мира, как говорил мне когда-то один обманщик, — все же в сказке этой есть тайный смысл, и теперь я вполне разумею его. Ибо воистину вся гнусность народов вторгается в души праведников, чтобы исчезнуть там, как в бездонном колодце. Поэтому души святых осквернены больше, нежели души простых грешников. И да будешь благословен ты, господи, что сделал меня сточною ямою мира.
Но вот в один прекрасный день до святого града дошла молва, которая всех всполошила и даже достигла слуха подвижника: важный сановник, один из знаменитейших государственных деятелей — сам начальник александрийского флота Люций-Аврелий Котта собирается сюда! Он уже едет, он недалеко!
Слух был верный. Старик Котта, обследовавший в ту пору каналы и судоходство на Ниле, неоднократно выражал желание взглянуть на столпника и на новый город, которому дали название Стилополиса. Однажды утром жители Стилополиса заметили, что вся река усеяна парусами. На борту золотой галеры, обтянутой пурпуром, ехал Котта, а за ним следовала целая флотилий. Он спустился на берег и пошел в сопровождении писца, несшего навощенные таблички, и врача Аристея, с которым он любил беседовать.
Позади шествовала многочисленная свита, и берег пестрел латиклавами и воинскими одеждами. Неподалеку от колонны Котта остановился и, утирая себе лоб краем тоги, стал рассматривать столпника. Он был от природы любознателен и много видел во время своих длительных путешествий. Он любил вспоминать прошлое и намеревался, после того как закончит историю пунических войн, написать книгу о диковинных вещах, которые ему довелось видеть. Зрелище, представившееся ему, по-видимому, очень занимало его.
— До чего странно! — говорил он, тяжело дыша и обливаясь потом. — И удивительнее всего то, что этот человек был моим гостем. Да, в прошлом году монах однажды ужинал у меня и после этого похитил танцовщицу.
Он обернулся к писцу:
— Отметь это, сынок, на табличке, равно как и размеры колонны. Не забудь указать и форму капители.
Потом он снова утер лоб и добавил:
— Люди, достойные доверия, клялись мне, будто он сидит на столпе уже целый год и ни разу с него не спускался. Аристей, возможно ли это?
— Возможно для сумасшедшего или больного, но немыслимо для человека, здорового телом и душой, — отвечал Аристей. — Разве ты не знаешь, Люций, что некоторые душевные и телесные недуги наделяют больных такими способностями, каких не бывает у здоровых? Да и, в сущности говоря, нет ни больных, ни здоровых. Есть только различные состояния органов. Чем больше я изучаю то, что зовется недугами, тем больше убеждаюсь, что болезни надо считать неизбежными явлениями жизни. Я охотнее изучаю их, чем лечу. Некоторые из них нельзя наблюдать без восторга, ибо на первый взгляд они нарушают порядок, а в действительности полны глубокой гармонии. Право же, перемежающаяся лихорадка — прекрасная вещь! Иной раз телесные немощи влекут за собою неожиданное обострение умственных способностей. Ты знаком с Креоном. В детстве он был дурачок и заика. Но однажды он упал с лестницы и проломил себе череп, а после этого стал превосходным адвокатом, каким ты его и знаешь. По-видимому, и у этого монаха поврежден какой-нибудь внутренний орган. Впрочем, его образ жизни не так уж необычен, как тебе кажется, Люций. Вспомни индийских гимнософистов, которые могут пребывать в полной неподвижности не только что год, но даже двадцать, тридцать и сорок лет.
— Клянусь Юпитером, вот нелепость! — воскликнул Котта. — Ведь человек родится, чтобы действовать, а косность — непростительное преступление, ибо она наносит ущерб государству. Не знаю, с какими верованиями сопряжен столь пагубный предрассудок. Вероятно, тут сказываются некоторые азиатские вероучения. Когда я был губернатором Сирии, я видел на пропилеях Гиераполя изображения фаллуса. Два раза в год кто-нибудь из мужчин поднимается на пропилеи и проводит там семь дней. Народ уверен, что этот человек беседует с богом и вымаливает у него благоденствие Сирии. Такой обычай представлялся мне бессмысленным, однако я не старался искоренить его. Я ведь считаю, что хороший правитель должен не препятствовать народным обычаям, а, наоборот, всячески поддерживать их. Не дело государства навязывать народу какие-либо верования; его обязанность — покровительствовать существующим религиозным представлениям, потому что — плохи ли они, хороши ли — они предопределены духом времени, места и расы. Если государство начинает бороться с ними, оно становится нетерпимым по духу, самоуправным в своих действиях и вызывает справедливое озлобление. Да и можно ли возвыситься над суевериями черни иначе, как только поняв и примирившись с ними? Аристей, я того мнения, что этого тучежителя надо оставить в покое; пусть себе парит в воздухе, не терпя обид ни от кого, кроме птиц. Не насилием могу я справиться с ним, а только считаясь с его верованиями и его образом мыслей.
Он отдышался, покашлял и, положа руку на плечо писца, сказал:
— Запиши, сынок, что некоторые христианские секты считают похвальным похищать куртизанок и жить на колоннах. Можешь добавить, что такой обычай связан, по-видимому, с культом оплодотворения. Но об этом всего лучше спросить у него самого.
Котта поднял голову, заслонился от солнца рукою и закричал:
— Эй, Пафнутий! Помнишь, ты был у меня в гостях? Так ответь же мне. Что ты там делаешь? Зачем ты забрался на такую высь и зачем там поселился? Придаешь ли ты этому столпу некий фаллический смысл?
Приняв во внимание, что Котта — язычник, Пафнутий не удостоил его ответом. Зато ученик столпника, Флавиан, подошел к Котте и сказал:
— Сиятельнейший владыка, этот праведник берет на себя грехи мира и врачует болезни.
— Клянусь Юпитером! Ты слышал, Аристей? — воскликнул Котта. — Этот тучежитель занимается, как и ты, врачеванием! Что скажешь о собрате, достигшем таких вершин?
Аристей покачал головой:
— Вполне возможно, что кое-какие болезни он излечивает и лучше меня, например, падучую, которую в народе называют священной болезнью, хотя и вообще-то все болезни священны, раз все они от богов. Но причина падучей частично коренится в воображении больного, а согласись сам, Люций, что этот монах, примостившийся на голове богини, сильнее действует на воображение больных, чем я, корпящий в своей аптечке над ступками и склянками. Существуют, Люций, силы куда могущественнее разума и науки.
— Какие именно? — спросил Котта.
— Невежество и безрассудство, — отвечал Аристей.
— Мне редко доводилось наблюдать что-либо любопытнее того, что я вижу сейчас, — продолжал Котта, — и мне хотелось бы, чтобы какой-нибудь искусный писатель рассказал историю основания Стилополиса. Однако даже самые редкостные зрелища не должны задерживать человека степенного и трудолюбивого дольше, чем следует. Пойдем же и осмотрим каналы. Прощай, добрый Пафнутий! Или вернее — до свидания! Если ты спустишься со столпа и паче чаяния вернешься в Александрию, не забудь зайди ко мне поужинать!