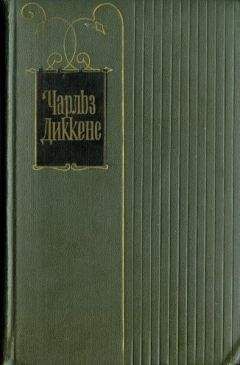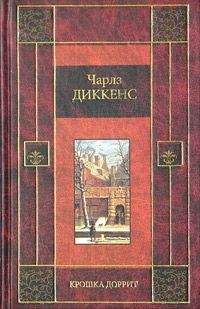– Вы хотите сказать, – отозвался Артур, проникаясь все большим уважением к этому тихому человеку, – что даже и теперь вы не утратили мужества?
– Не имею на это права, – отвечал Дойс. – Ведь идея моя все-таки верна!
Некоторое время они шагали молча, затем Кленнэм, желая переменить разговор и в то же время не желая делать это слишком резко, спросил мистера Дойса, есть ли у него компаньон, который делил бы с ним вес заботы и трудности.
– Нет, – отвечал тот. – Теперь нет. Был у меня компаньон, в то время когда я начинал. Хороший был человек, настоящий друг. Но он несколько лет назад умер; и так как я не мог примириться с мыслью, что кто-то другой займет его место, я выкупил у наследников его долю, и с тех пор управляюсь один. Только, знаете что? – добавил он, остановившись и с добродушной усмешкой положив на локоть Кленнэма свою правую руку со странно отогнутым большим пальцем, – изобретатели не годятся для ведения дел.
– Неужели?
– По крайней мере так утверждают деловые люди, – сказал Дойс и, весело расхохотавшись, снова зашагал вперед. – Уж не знаю почему, но принято считать, что мы, горемычные, начисто лишены обыкновенного житейского здравого смысла. Даже милейший хозяин этого дома, – Дойс мотнул головой в сторону Туикнема, – лучший мой друг на земле, почитает своим долгом опекать меня, как существо, неспособное о себе позаботиться.
Артур Кленнэм в свою очередь не удержался от смеха, услышав это справедливое замечание.
– Выходит, нужен мне такой компаньон, который был бы настоящим деловым человеком и никогда не грешил бы по части изобретательства, – снова заговорил Дойс, сняв шляпу и проводя ладонью по лбу. – Хотя бы в угоду ходячему мнению и для того, чтобы поддержать престиж предприятия. Не думаю, чтобы этот новый компаньон – кто бы он ни был – нашел у меня очень уж большие упущения или беспорядок в делах; а впрочем, это ему судить, а не мне.
– Так, значит, вы еще не подыскали себе компаньона?
– Нет, сэр, еще нет. Я, собственно, только недавно решил, что мне без этого не обойтись. Видите ли, дел все прибавляется, а мне и на заводе работы предовольно, годы-то уже не те. Нужно и переписку вести и книги содержать в порядке, и за границу ездить – там тоже хозяйский глаз требуется, – и меня уже на все не хватает. Вот если удастся улучить полчасика, думаю потолковать обо всем этом с моим – моим опекуном и покровителем, – сказал Дэниел Дойс, и в глазах у него снова блеснул смех. – Он человек умудренный опытом и хорошо разбирается в подобных материях.
Еще много о чем они беседовали, пока не добрались до цели своего путешествия. Во всех суждениях Дойса чувствовалась спокойная и сдержанная уверенность – уверенность человека, который твердо знает: что верно, то всегда будет верно, вопреки всем Полипам, населяющим родной океан, и останется верным, даже если этот океан пересохнет до последней капли; однако эта величавая уверенность ничем не напоминала величественного апломба чиновных лиц.
Хорошо зная местоположение коттеджа, Дойс повел Артура дорогой, откуда это местоположение казалось особенно живописным. Дом был прелестный (некоторая причудливость архитектуры его не портила); он стоял близ дороги, на речном берегу, и казалось, трудно было подобрать для семейства Миглз более подходящее обиталище. Вокруг дома тянулся сад, должно быть так же прекрасно расцветавший в майскую пору, как сейчас, в майскую пору своей жизни, цвела Бэби; и густо разросшиеся деревья склонялись над домом, оберегая его, как мистер и миссис Миглз оберегали свою любимую дочку. Тут прежде стоял другой, кирпичный дом; часть его снесли совсем, а другую перестроили заново, так что в нынешнем коттедже были и добротные старые стены, словно бы символизировавшие собой мистера и миссис Миглз, и прехорошенькая, легкая новенькая пристройка, словно бы символизировавшая Бэби. К дому еще лепилась оранжерея, выстроенная позднее; в тени ее стекла казались тусклыми и темными, но когда ударяло в них солнце, они то вспыхивали, как пламя пожара, то мирно поблескивали, как прозрачные капли воды. Эту оранжерею можно было бы счесть символом Тэттикорэм. Из окон открывался вид на реку, по которой скользила лодка перевозчика; и мирный этот вид, казалось, назидательно говорил обитателям дома: «Вот вы молоды или стары, запальчивы или кротки, негодуете или смиряетесь, а тихие струи потока всегда неизменны в своем беге. Какие бы бури ни бушевали в сердцах, вода за кормою журчит всегда одну и ту же песню. Год за годом проходит, и все столько же миль в час пробегают речные воды, все на столько же ярдов сносит течением лодку при переправе, все так же здесь белеют кувшинки, а там шелестят камыши, и река свершает свой вечный путь, не ведая перемен и смятений; тогда как ваш путь по реке времени прихотлив и полон неожиданностей».
Не успел прозвонить колокольчик у калитки, как мистер Миглз уже вышел встречать гостей. Не успел выйти мистер Миглз, как вышла миссис Миглз. Не успела выйти миссис Миглз, как вышла Бэби. Не успела выйти Бэби, как вышла Тэттикорэм. Никогда еще не оказывали нигде гостям более радушного приема.
– Вот так мы и живем, мистер Кленнэм, – сказал мистер Миглз. – Сидим себе, как видите, в своей домашней скорлупе и не помышляем о том, чтобы высунуть из нее нос – то бишь отправиться в путешествие. Не похоже на Марсель, а? Тут уж никаких аллон-маршон не услышишь.
– Да, красота этих мест совсем иная, – сказал Кленнэм, осматриваясь кругом.
– А ведь до чего хорошо было в карантине, честное слово! – воскликнул мистер Миглз, весело потирая руки. – Я бы совсем не прочь опять там очутиться. Уж очень приятная у нас подобралась компания.
Таково было неизменное свойство мистера Миглза: путешествуя, он на все ворчал, а приехав домой, хотел опять очутиться там, где путешествовал.
– Жаль, что теперь не лето, – сказал мистер Миглз. – и вы не можете полюбоваться нашим садом во всем его великолепии. Летом вы бы тут сами себя не услышали из-за птичьего гомона. Как люди практические, мы не позволяем распугивать птиц; и птицы – они ведь тоже народ практический – слетаются сюда тучами. Мы от души рады, Кленнэм (с вашего позволения я опущу «мистера»); поверьте, от души рады.
– С тех пор как мы с вами прогуливались по террасе над Средиземным морем, я не слыхал таких сердечных речей, – сказал Кленнэм, но, вспомнив свой ночной разговор с Крошкой Доррит, поспешил честно добавить: – кроме одного раза.
– А какой вид открывался с этой террасы! – воскликнул мистер Миглз. – Я не сторонник военного духа в государстве, но, пожалуй, немножко аллон-маршон – так, самая малость – придало бы жизни здешним местам. А то уж очень у нас тут непробудная тишь.
Сопроводив эту характеристику своего идиллического приюта сомнительным покачиванием головы, мистер Миглз повел гостей в дом.
Дом был просторен, но не слишком велик, выглядел внутри так же привлекательно, как и снаружи, и все в нем было очень хорошо и удобно устроено. Кое-что в обстановке – завешенные картины, чехлы на мебели, свернутые драпировки – напоминало об отсутствии у хозяев склонности к домоседству; но как нетрудно было угадать, одна из причуд мистера Миглза состояла в том, что, пока семейство путешествовало, комнаты должны были всегда содержаться в таком виде, как будто хозяева возвращаются послезавтра. Дом был битком набит всякой всячиной, вывезенной мистером Миглзом из путешествий, и это придавало ему сходство с жильем какого-то добродушного корсара. Были тут древности из Центральной Италии, изготовленные на предприятиях лучших современных фирм, доведших до совершенства эту отрасль промышленности; кусочки мумий из Египта (а может быть, из Бирмингема); модели венецианских гондол; модели швейцарских деревушек; обломки мозаичных плит из Геркуланума и Помпеи,[40] похожие на окаменелый мясной фарш; пепел из усыпальниц и лава из Везувия; испанские веера, мавританские туфли, тосканские головные шпильки, каррарские статуэтки, трастеверинские шарфы, генуэзский бархат и филигрань, неаполитанские кораллы, римские камеи, женевские ювелирные изделия, арабские фонари, четки, освященные самим папой, и еще целые груды всевозможного хлама. На стенах красовались виды множества мест, схожие и несхожие с натурой; а одно небольшое зальце увешано было изображениями каких-то древних святых с жилами, напоминавшими пряди каната, морщинами в виде татуировки и прической, как у Нептуна, причем все это было покрыто столь густым слоем лака, что каждый праведник с успехом заменял клейкую бумагу для ловли мух, в просторечии именуемую липучкой. По поводу своих приобретений мистер Миглз говорил то, что обычно говорится в подобных случаях: он не знаток, он судит только по своему вкусу, эти картины достались ему за бесценок, но многим они нравятся. Во всяком случае, одно лицо, понимающее толк в этих вещах, говорило ему, что «Мудрец за чтением» (завернутый в одеяло старичок с горжеткой из лебяжьего пуха вместо бороды, которому густая сеть трещинок придавала сходство с перепекшимся пирогом) – отличнейший Гверчино.[41] А что касается вон той картины направо, так тут дело ясное для каждого: если уж это не поздний Себастиан дель Пьомбо,[42] так спрашивается, кто же? Тициан? Может быть, конечно, и Тициан, а может быть, Тициан только коснулся этого шедевра своей кистью. «А может быть, и не касался», – заметил Дойс; но мистер Миглз предпочел пропустить это замечание мимо ушей.