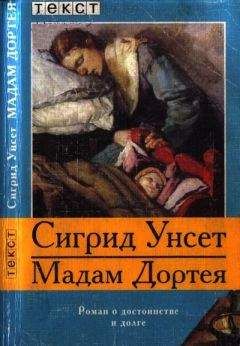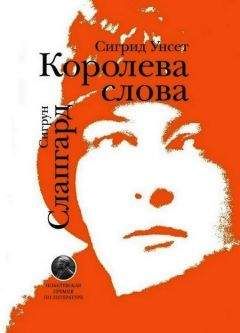Они сплясали и спели уже пятнадцать или шестнадцать стихов, когда фру Магнхильд внезапно издала громкий крик… Вся цепочка приостановилась. Пот градом катился по красному распаренному лицу хозяйки, и она держалась за грудь – она закричала, что не в силах более плясать.
Арнвид мотнул своей маленькой головой в сторону Тейта, его глаза необузданно сверкали, и он что-то крикнул, снова затягивая песню, а все мужчины стали вторить ему:
Лихо мы рубились,
Все сыны Аслауг [99],
Острым мечом пробудили бы
Спящую Хильд, коли бы знали…
Мужчинам захотелось спеть и последние припевы, даже если для этого придется перескочить через десять – двенадцать стихов.
Подарил сынам я мать,
Ту, что им по сердцу!..
Пляшущие вошли в раж и пели хором столь громко, что, казалось, им в ответ откликалось эхо:
Лихо мы рубились…
Время песню кончить.
Кличут меня Норны [100]
Из чертогов Хэрьи [101].
Один шлет за мною,
С асами я стану
Пить хмельную брагу
На почетном месте.
Земное счастье тленно:
Смерть с улыбкой встречу.
Тут пляшущие стали расходиться, с трудом доплелись они до стола и рухнули на скамьи. Мужчины отложили мечи и стерли пот с лица, смеясь от радости. А те, кто помоложе и только смотрели на пляс, закричали, что он удался на славу. Магнхильд держалась за бока, задыхаясь от усталости.
– Да, вот это пляс! Не то что ваши прыжки да беганье… Начни-ка ты теперь, Маргрет, спляши под одну из этих славных любовных песен, которые вам так по душе:
Жил-был король, господин Эйрик,
Поехал он в горы на север…
Потому как песни эти столь изысканны и сладки, будто мед; а те старинные плясовые больно грубы для таких сахарных куколок, как вы!
Молодые не заставили себя просить дважды – они и так думали, что старики расплясались не в меру; правда, чудно было увидеть хоть разок этот старинный пляс с мечами… да и…
Тейт подошел к скамье, где, съежившись у стены, сидела Ингунн, окутанная своими прекрасными волосами. Лицо ее не разрумянилось от пляски, а покрылось росинками пота и стало бледным, восковым.
– Притомилась я, не могу больше плясать. Посижу лучше да погляжу…
Тейт пошел к другим. Этот неугомонный парень, казалось, знал и уйму старых песен, и все новые.
Ингунн остановилась на туне – она покинула застольную, где играли и плясали, чтобы пойти к бабушке и лечь спать.
Уже близилась полночь – по всей огляди протянулась бледная, ясная полоса, пронизанная сверкающей белизной, сгущавшейся на севере в свинцовую желтизну. Только над горной грядой по другую сторону фьорда была словно наброшена серо-голубая пелена легких туч, а сквозь нее струился трепетный и влажный свет заходящей луны.
Хотя ночь стояла ясная, небо над землей было темнее, чем обычно в это время года, – пашни, луга и лиственные рощи были напоены влагой после непогоды, бушевавшей днем; земля дышала сыростью и прохладой. Над водой неслись редкие клочья буровато-сизого дыма, но все костры были погашены, кроме одного, большого и красного, светившегося далеко-далеко на мысу и отбрасывавшего свое отражение, будто узкий пылающий клинок, в голубовато-стальную воду.
Тейт тоже вышел из дому и стал искать Ингунн – она знала, что так оно и будет. Не оглядываясь, она стала спускаться по горному склону к пашне, которая лежала внизу, у фьорда. Когда девушка подошла к воротам изгороди и встала там, чтобы убрать жердь, он догнал ее. Они не сказали друг другу ни слова, когда пошли дальше, – она впереди, юноша позади, по узкой тропинке меж всходов нежной молодой пшеницы. Там, где кончалась пашня, бежал ручей, и тропинка вилась вдоль ручья под густыми зарослями ольшаника и ивняка вниз, к причалам. Лишь только они вошли в тень листвы, Ингунн остановилась. Было темно – хоть глаз выколи; она побоялась идти дальше.
– Ух!.. И холодно же нынче ночью, – чуть слышно прошептала она, вздрагивая от холода.
Она едва различала мужчину, стоявшего рядом, но чувствовала мягкое, сладостное тепло его тела, которое словно защищало ее от ледяного дыхания и терпкого духа мокрой листвы и влажной земли. Он все время молчал, и молчание это вдруг показалось ей ужасным и угрожающим. В припадке внезапно охватившего ее безудержного страха она подумала: нужно во что бы то ни стало заставить его что-нибудь сказать, тогда опасность минует ее.
– Хороша плясовая, которую ты пел в застольной, – прошептала она, – о вербе. Спой еще!
Тихим и ясным голосом Тейт спел во мраке:
Счастлива ты, верба,
Растешь подле моря,
Суля красоту и добро!
Люди стряхивают с тебя
Утреннюю росу.
А я тоскую
Денно и нощно по Тегн [102].
Подняв руки, Ингунн притянула к себе полную охапку веток, покрытых горько пахнущими листьями, – ее обдало в темноте дождем и росой.
– Ты испортишь свое красивое платье, – сказал Тейт. – Промокла?.. Дай-ка я взгляну…
Но когда он в темноте дотронулся до ее груди, она быстрее молнии присела и выскользнула у него из рук. Тихо вскрикнув от страха, она бросилась бежать вверх по тропе; подобрав обеими руками платье, она мчалась по полю изо всех сил, словно ее настигала смерть.
Тейт был так поражен, что мгновение стоял растерянный. Потом опомнился и бросился следом. Но Ингунн сильно опередила его, и он смог догнать ее лишь у ворот изгороди. Но отсюда их могли уже видеть и слышать с туна гости, которые выходили из дома, отправляясь на покой. Тогда он перевел дух и не стал ее догонять.
Когда они встретились на другой день, вид у него был мрачный и обиженный. Ингунн чуть ли не заискивающе поздоровалась с ним и робко пробормотала:
– Мы, видно, оба рехнулись нынче ночью – и надо же придумать такое: спуститься вниз к озеру в полночь!
– Так, стало быть, вот о чем ты жалеешь? – сухо спросил исландец.
– И, кажется, оттуда видны те же костры, что мы видели сверху, из усадьбы. Так что, пожалуй, не стоило спускаться к причалу.
– Да, уж верно, нам было бы куда лучше дома вдвоем, – сердито сказал Тейт. Попрощавшись, он ушел.
То было после полудня поздней осенью – три месяца спустя после дня летнего солнцестояния. Ингунн прошла в ворота изгороди, где жерди были сняты, потому что скот пригнали домой с ближнего сетера и он свободно пасся на всех приусадебных пашнях. Сейчас коровы щипали траву чуть пониже ячменного поля – невозможно было представить себе зрелище более прекрасное, нежели эти вернувшиеся с горного пастбища животные. Они были такие тучные и гладкие, что лоснились на солнце. Коровы были пестрые и всех мастей, какие только встречаются у домашней скотины, а отава, тут и там усеянная бесчисленными пятнами отливающей серебром ромашки, была так высока и зелена! Она просто дышала плодородием. Небо голубело, а мелкие легкие перистые облака неслись высоко над землей; синий фьорд отражал по-осеннему прекрасные берега и лиственные леса, окружавшие приусадебные пашни багряно-золотым кольцом. За ним стоял хвойный лес, темный и иссиня-зеленый, и казалось, будто вершина каждой ели впитывает свет, пронизывающий пряный прохладный воздух.
Радостная лучезарная сила этого дня заставила ее сжаться под бременем страха и печали. Когда он назначил ей свидание, у нее не хватило духу отказать ему. Она до смерти боялась остаться с ним наедине. Но не смела поступить иначе. Ведь он может подойти к ней в усадьбе и заговорить об этом, а вдруг кто-нибудь услышит!..
Жнивье бледным золотом сияло по обе стороны тропинки – в тот день видны были далеко вокруг открытые, голые по-осеннему пашни. Его маленькая гнедая нищенски жалкая кляча паслась внизу в роще у ручья.
Ингунн молилась про себя беззвучно – лишь стон выдавал ее горчайшие муки. Вот так же молилась она в ту ночь, когда он стоял у дверей бабушкиного дома, тихо стуча и зовя ее по имени. В кромешной тьме стояла она на коленях у изголовья кровати, обхватив руками резную, в виде лошадиной головы, стойку, и звала на помощь молча, беззвучно, вся сотрясаясь от страха. Ведь с ней уже случилась беда, она ни за что не хочет пасть еще ниже. И тут подумала: он может вынудить ее против воли; ей придется сойти с кровати и впустить его. Когда она поняла: он отошел от двери, – она зарыдала, благодаря его за это. Ведь ее удерживала не собственная крошечная капля воли, а невидимая сила, могучая и суровая, заполнившая тьму между ней и опасностью, таившейся за дверью. Когда, обессиленная, она забралась под меховое одеяло, смиренно благодарная за спасение, она подумала, что примет безропотно любую, самую суровую кару за свой грех, лишь бы ей никогда больше не отдаться во власть Тейта. И когда они встретились на другой день и он пошутил: она, дескать, спит так крепко, что ему пришлось уйти безутешным от ее двери, она ответила:
– Я не спала, я все слышала.