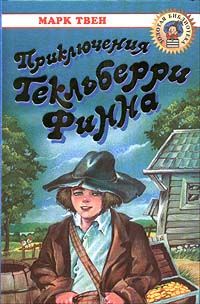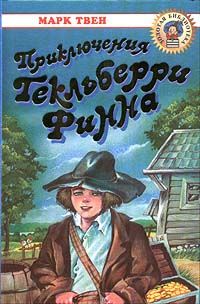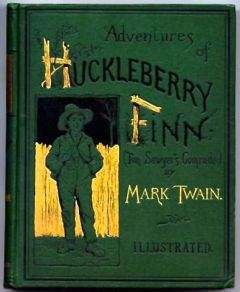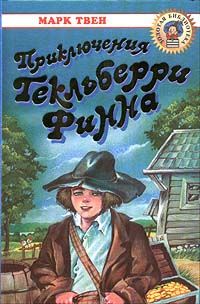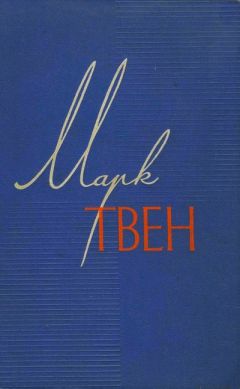– Удивительное дело, я и сам ничего не понимаю. Отлично помню, что я её снял, потому что…
– Потому что на тебе надета одна рубашка, а не две. Тебя послушай только! Вот я так действительно знаю, что ты её снял, лучше тебя знаю, потому что вчера она сушилась на верёвке – я своими глазами её видела. А теперь рубашка пропала, вот тебе и всё! Будешь теперь носить красную фланелевую фуфайку, пока я не выберу время сшить тебе новую. За два года это уж третью рубашку тебе приходится шить. Горят они на тебе, что ли? Просто не понимаю, что ты с ними делаешь, только и знай – шей тебе рубашки! В твои годы пора бы научиться беречь вещи!
– Знаю, Салли, я уж стараюсь беречь, как только можно. Но тут не я один виноват – ты же знаешь, что я их только и вижу, пока они на мне, а ведь не мог же я сам с себя потерять рубашку!
– Ну, это уж не твоя вина, Сайлас: было бы можно, так ты бы её потерял, я думаю. Ведь не только эта рубашка пропала. И ложка тоже пропала, да и это ещё не всё. Было десять ложек, а теперь стало всего девять. Ну, рубашку, я думаю, телёнок сжевал, но ложку-то он не мог проглотить, это уж верно.
– А ещё что пропало, Салли?
– Полдюжины свечей пропало – вот что пропало! Может, крысы их съели? Я думаю, что это они; удивительно, как они весь дом ещё не изгрызли! Ты всё собираешься заделать дыры ж никак не можешь собраться; будь они похитрей, так спали бы у тебя на голове, а ты бы ничего не почуял. Но ведь не крысы же стащили ложку, уж это-то я знаю!
– Ну, Салли, виноват, сознаюсь, – это моя оплошность. Завтра же обязательно заделаю все дыры!
– Куда так спешить, и в будущем году ещё успеется. Матильда Энджелина Араминта Фелпс!
Трах! – напёрсток стукнул, и девочка вытащила руку из сахарницы и смирно уселась на месте. Вдруг прибегает негритянка и говорит:
– Миссис Салли, у нас простыня пропала!
– Простыня пропала! Ах ты господи!
– Я сегодня же заткну все дыры, – говорит дядя Сайлас, а сам, видно, расстроился.
– Замолчи ты, пожалуйста! Крысы, что ли, стянули простыню! Как же это она пропала, Лиза?
– Ей-богу, не знаю, миссис Салли. Вчера висела на верёвке, а теперь пропала: нет её там.
– Ну, должно быть, светопреставление начинается. Ничего подобного не видывала, сколько живу на свете! Рубашка, простыня, ложка и полдюжины свечей…
– Миссис, – вбегает молодая мулатка, – медный подсвечник куда-то девался!
– Убирайся вон отсюда, дрянь этакая! А то как запущу в тебя кофейником!..
Тётя Салли просто вся кипела. Вижу – надо удирать при первой возможности; улизну, думаю, потихоньку и буду сидеть в лесу, пока гроза не пройдёт. А тётя Салли развоевалась, просто удержу нет, зато все остальные притихли и присмирели; и вдруг дядя Сайлас выуживает из кармана эту самую ложку, и вид у него довольно глупый. Тётя Салли всплеснула руками я замолчала, разинув рот, – а мне захотелось убраться куданибудь подальше, – но ненадолго, потому что она сейчас же сказала:
– Ну, так я и думала! Значит, она всё время была у тебя в кармане; надо полагать, и всё остальное тоже там. Как она туда попала?
– Право, не знаю, Салли, – говорит дядя, вроде как бы оправдываясь, – а не то я бы тебе сказал. Перед завтраком я сидел и читал «Деяния апостолов», главу семнадцатую, и, должно быть, нечаянно положил в карман ложку вместо Евангелия… наверно, так, потому что Евангелия у меня в кармане нет. Сейчас пойду посмотрю: если Евангелие там лежит, значит, я положил его не в карман, а на стол и взял ложку, а после того…
– Ради бога, замолчи! Дайте мне покой! Убирайтесь отсюда все, все до единого, и не подходите ко мне, пока я не успокоюсь!
Я бы её услышал, даже если бы она шептала про себя, а не кричала так, и встал бы и послушался, даже если бы лежал мёртвый. Когда мы проходили через гостиную, старик взял свою шляпу, и гвоздь упал на пол; тогда он просто подобрал его, положил на каминную полку и вышел – и даже ничего не сказал. Том всё это видел, вспомнил про ложку и сказал:
– Нет, с ним никаких вещей посылать нельзя, он не надёжен. – Потом прибавил: – А всё-таки он нам здорово помог с этой ложкой, сам того не зная, и мы ему тоже поможем – и опять-таки он знать не будет: давай заткнём эти крысиные норы!
Внизу, в погребе, оказалась пропасть крысиных нор, и мы возились целый час, зато уж все заделали «как следует, прочно и аккуратно. Потом слышим на лестнице шаги – мы скорей потушили свечку и спрятались; смотрим – идёт наш старик со свечкой в одной руке и с целой охапкой всякой всячины в другой, и такой рассеянный – тычется, как во сне. Сначала сунулся к одной норе, потом к другой – все по очереди обошёл. Потом задумался и стоял, должно быть, минут пять, обирая сало со свечки; потом повернулся и побрёл к лестнице, еле-еле, будто сонный, а сам говорит: „Хоть убей, не помню, когда я это сделал! Вот надо было бы сказать ей, что зря она из-за крыс меня ругала. Ну да уж ладно, пускай! Всё равно никакого толку не выйдет“, – и стал подниматься по лестнице, а сам бормочет что-то. А за ним и мы ушли. Очень хороший был старик! Он и сейчас такой!
Том очень беспокоился, как же нам быть с ложкой, сказал, что без ложки нам никак нельзя, и стал думать. Сообразил всё как следует, а потом сказал мне, что делать. Вот мы всё и вертелись около корзины с ложками, пока не увидели, что тётя Салли идёт; тогда Том стал пересчитывать ложки и класть их рядом с корзинкой; я спрятал одну в рукав, а Том и говорит:
– Знаете, тётя Салли, а всё-таки ложек только девять.
Она говорит:
– Ступай играть и не приставай ко мне! Мне лучше знать, я сама их считала.
– Я тоже два раза пересчитал, тётя, и всё-таки получается девять.
Она, видно, из себя выходит, но, конечно, стала считать, да в всякий на её месте стал бы.
– Бог знает, что такое! И правда, всего девять! – говорит она. – А, да пропади они совсем, придётся считать ещё раз!
Я подсунул ей ту ложку, что была у меня в рукаве, она Пересчитала и говорит:
– Вот ещё напасть – опять их десять!
А сама и сердится, и не знает, что делать. А Том говорит:
– Нет, тётя, не может быть, чтобы было десять.
– Что ж ты, болван, не видел, как я считала?
– Видел, да только…
– Ну ладно, я ещё раз сочту.
Я опять стянул одну, и опять получилось девять, как и в тот раз. Ну, она прямо рвала и метала, даже вся дрожит – до того взбеленилась. А сама всё считает и считает и уж до того запуталась, что корзину стала считать вместе с ложками, и оттого три раза у неё получилось правильно, а другие три раза – неправильно. Тут она как схватит корзинку и шварк её в угол – кошку чуть не убила; потом велела нам убираться и не мешать ей, а если мы до обеда ещё раз попадёмся ей на глаза, она нас выдерет. Мы взяли эту лишнюю ложку да и сунули ей в карман, пока она нас отчитывала, и Джим получил ложку вместе с гвоздём, всё как следует, ещё до обеда. Мы остались очень довольны и Том сказал, что для такого дела стоило потрудиться, потому что ей теперь этих ложек ни за что не сосчитать, хоть убей, – всё будет сбиваться; и правильно сочтёт, да себе не поверит; а ещё денька три посчитает – у неё и совсем голова кругом пойдёт, тогда она бросит считать эти ложки да ещё пристукнет на месте всякого, кто только попросит их сосчитать.
Вечером мы опять повесили ту простыню на верёвку и украли другую, у тёти Салли из шкафа, и два дня подряд только тем и занимались: то повесим, то опять, стащим, пока она не сбилась со счёта и не сказала, что ей наплевать, сколько у неё простынь, – не губить же из-за них свою душу! Считать она больше ни за что на свете не станет, лучше умрёт.
Так что насчёт рубашки, простыни, ложки и свечей нам нечего было беспокоиться – обошлось: тут и телёнок помог, и крысы, и путаница в счёте; ну а с подсвечником тоже как-нибудь дело обойдётся, это не важно.
Зато с пирогом была возня: мы с ним просто замучились. Мы его месили в лесу и пекли там же; в конце концов всё сделали, и довольно прилично, но не в один день; мы извели три полных таза муки, пока его состряпали, обожгли себе все руки, и глаза разъело дымом; нам, понимаете ли, нужна была одна только корка, а она никак не держалась, всё проваливалась. Но в конце концов мы всё-таки придумали, как надо сделать: положить в пирог лестницу да так и запечь вместе. Вот на другую ночь мы уселись вместе с Джимом, порвали всю простыню на узенькие полоски и свили их вместе, и ещё до рассвета получилась у нас замечательная верёвка, хоть человека на ней вешай. Мы вообразили, будто делали её девять месяцев.
А перед обедом мы отнесли её в лес, но только в пирог она не влезла. Если б понадобилось, этой верёвки хватило бы на сорок пирогов, раз мы её сделали из целой простыни; осталось бы и на суп, и на колбасы, и на что угодно. Целый обед можно было приготовить. Но нам это было ни к чему. Нам было нужно ровно столько, сколько могло влезть в пирог, а остальное мы выбросили. В умывальном тазу мы никаких пирогов не пекли - боялись, что замазка отвалится; зато у дяди Сайласа оказалась замечательная медная грелка с длинной деревянной ручкой, он ею очень дорожил, потому что какой-то там благородный предок привёз её из Англии вместе с Вильгельмом Завоевателем16 на «Мейфлауэре»17 или ещё на каком-то из первых кораблей и спрятал на чердаке вместе со всяким старьём и другими ценными вещами; и не то чтобы они дорого стоили – они вовсе ничего не стоили, а просто были ему дороги как память; так вот мы её стащили потихоньку и отнесли в лес; но только сначала пироги в ней тоже не удавались – мы не умели их печь, а зато в последний раз здорово получилось. Мы взяли грелку, обмазали её внутри тестом, поставили на уголья, запихали туда верёвку, опять обмазали сверху тестом, накрыли крышкой и засыпали горячими угольями, а сами стояли шагах в пяти и держали её за длинную ручку, так что было и не жарко и удобно, и через четверть часа испёкся пирог, да такой, что одно загляденье. Только тому, кто стал бы есть этот пирог, надо было бы сначала запасти пачек сто зубочисток, да и живот бы у него заболел от этой верёвочной лестницы – небось скрючило бы в три погибели! Не скоро запросил бы еды, я-то уж знаю!