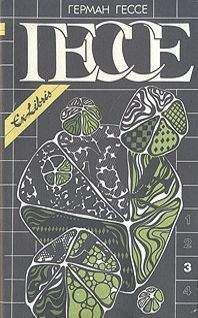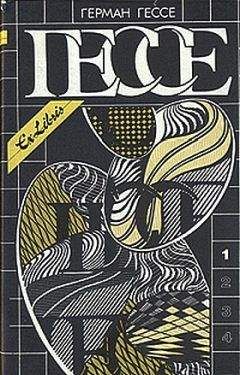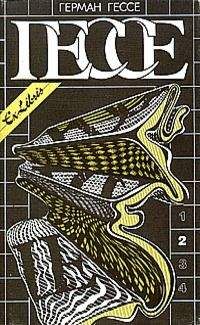Гольдмунд и не желал ничего лучшего.
Он нашел помещение возле ворот во двор, которое пустовало и подходило для мастерской. Заказал плотнику стол для рисования и другие необходимые вещи, которые точно ему нарисовал. Составил список предметов, которые постепенно должны были привезти ему из ближайших городов монастырские возчики, длинный список. Просмотрел у плотника и в лесу все запасы срубленного дерева, отобрал некоторые куски для себя и приказал разложить их на траве позади мастерской для просушки, а сам сделал над ними навес. Много дел было у него и в кузнице; сын кузнеца, молодой и мечтательный, был совершенно очарован им и во всем держал его сторону. Он по полдня простаивал с ним у кузнечного горна, у наковальни, у холодильного чана и точильного камня, здесь они делали всякие кривые и прямые ножи, резцы, сверла и скребки, нужные Гольдмунду для обработки дерева. Сын кузнеца Эрих, юноша лет двадцати, стал другом Гольдмунда, он во всем помогал ему и был полон горячего участия и любопытства. Гольдмунд обещал научить его играть на лютне, чего тот страстно желал, да и не прочь был попробовать заняться резьбой. Если временами в монастыре и у Нарцисса Гольдмунд чувствовал себя довольно бесполезным и угнетенным, то с Эрихом он отдыхал, а тот робко любил его и почитал без меры. Часто он просил рассказывать ему о мастере Никлаусе и епархиальном городе, иногда Гольдмунд охотно делал это и потом вдруг удивлялся, что вот он сидит здесь и, как старик, рассказывает о путешествиях и делах минувших, когда жизнь его только теперь начинается по-настоящему.
То, что за последнее время он сильно изменился и выглядел гораздо старше своих лет, заметно не было, — ведь никто здесь не знал его раньше.
Лишения странничества и беспорядочной жизни уже давно изнурили его; а потом время чумы с ее многочисленными ужасами и, наконец, заключение у графа и та страшная ночь в подвале замка потрясли его до глубины души, и все это оставило свой след: седину в белокурой бороде, тонкие морщины на лице, временами плохой сон и иногда глубоко в сердце некую усталость, ослабление желаний и любопытства, серое безразличие удовлетворенности и пресыщенности. Готовясь к своей работе, беседуя с Эрихом, хлопоча у кузнеца и плотника, он отходил, оживлялся и молодел, все восхищались им и любили его, но в промежутках он нередко по полчаса и по целому часу, усталый, улыбаясь в полусне, отдавался апатии и равнодушию.
Очень важным для него был вопрос, когда же он начнет работать. Первое произведение, которое он хотел здесь сделать, отплатив тем самым за гостеприимство монастыря, не должно было быть случайным, поставленным где-нибудь любопытства ради: оно должно было быть подобно имевшимся здесь старым произведениям, полностью подходить к постройкам и к стилю жизни монастыря и стать его частью. Охотнее всего он сделал бы алтарь или кафедру, но в обоих случаях не было ни надобности, ни места. Зато он придумал кое-что иное. В трапезной патеров была высокая ниша, откуда во время трапез молодой брат всегда читал из Жития святых. Эта ниша была без украшения. Гольдмунд решил украсить пульт и ведущие к нему ступеньки деревянными фигурами, создав при этом подобие кафедры. Он поделился своим планом с настоятелем, и тот отозвался о нем с похвалой.
И вот, когда наконец можно было начинать работать — лежал снег, и Рождество уже прошло, — жизнь Гольдмунда преобразилась. Для монастыря он как бы исчез, никто больше его не видел, он не поджидал уже больше после занятий ватагу учеников, не бродил по лесу, не прогуливался по галерее. Еду он брал теперь у мельника, это был уже не тот, которого он когда-то часто посещал мальчиком. И в свою мастерскую Гольдмунд не пускал никого, кроме своего помощника Эриха, да и тот иной день не слышал от него ни слова.
Для своего первого произведения, кафедры для чтеца, после долгих размышлений он набросал план: из двух частей, которые составляли произведение, одна должна была являть собой мир, другая — божественное Слово Нижняя часть, лестница, поднимаясь из крепкого дубового ствола и обвивая его, должна была представлять творение, образы природы и простой патриархальной жизни. Верхняя часть, парапет, будет поддерживаться фигурами четырех евангелистов. Одному из евангелистов он хотел придать черты покойного настоятеля Даниила, другому — покойного патера Мартина, его последователя, а в образе Луки он хотел увековечить своего мастера Никлауса.
Он столкнулся с немалыми трудностями, большими, чем ожидал. Они беспокоили его, но то было сладостное беспокойство, он поступал со своим произведением так, как будто завоевывал неприступную женщину: восхищенный и отчаявшийся, он боролся с ним ожесточенно и нежно, как борется удильщик с огромной щукой, всякое сопротивление было поучительным и заставляло более тонко чувствовать. Он забыл все остальное, забыл монастырь, почти забыл Нарцисса. Тот появлялся несколько раз, но не увидел ничего, кроме рисунков.
Зато однажды Гольдмунд поразил его просьбой — хотел исповедаться ему.
— До сих пор я не мог принудить себя к этому, — признался он, — я казался себе слишком ничтожным, чувствовал себя перед тобой и без того достаточно униженным. Теперь мне легче, теперь у меня есть работа и я больше не ничтожество. А уж поскольку я живу в монастыре, мне хотелось бы подчиняться порядку.
Он чувствовал, что пришло время, и не хотел больше ждать. А в покойной жизни первых недель, отдаваясь опять всему увиденному и юношеским воспоминаниям да и рассказывая по просьбе Эриха о своей прошлой жизни, он привел ее в определенный порядок и внес в нее ясность.
Нарцисс принял его исповедь без торжественности. Она продолжалась около двух часов. С неподвижным лицом выслушал настоятель рассказ о приключениях, страданиях и грехах своего друга, задал кое-какие вопросы, ни разу не перебил его и даже ту часть исповеди, где Гольдмунд признавался в утрате веры в Бога, справедливости и добра выслушал равнодушно. Он был потрясен некоторыми признаниями исповедовавшегося, видел, сколько раз тот испытывал потрясения и ужас и был близок к гибели. Затем он опять улыбался и был тронут невинной детскостью друга, когда тот раскаивался и беспокоился о неблагочестивых мыслях, которые по сравнению с его собственными сомнениями и безднами в мыслях были безвинны.
К удивлению, даже разочарованию Гольдмунда, духовник не счел его подлинные грехи слишком тяжкими, но сделал ему внушение и наказал его без пощады за пренебрежение молитвой, исповедью и причастием.
Он наложил на него покаяние: перед причастием четыре недели жить умеренно и целомудренно, каждое утро бывать на ранней мессе, а каждый вечер читать три раза «Отче наш» и один раз хвалу Богородице.
После этого он сказал ему:
— Я предупреждаю тебя и прошу не относиться легко к этому покаянию. Не знаю, помнишь ли ты еще хорошо текст мессы. Ты должен следить за каждым словом и проникаться его смыслом. «Отче наш» и некоторые гимны я сегодня же разъясню тебе сам, скажу, на какие слова и значения нужно обратить особое внимание. Святые слова нельзя произносить и слушать как обычные. Если ты поймаешь себя на том, что машинально читаешь слова, а это происходит чаще, чем ты думаешь, то тут же, вспомнив мое предостережение, начинай сначала и произноси слова так и так принимай их сердцем, как я тебе покажу.
Был ли то счастливый случай, или настоятель так хорошо понимал чужие души, но только после исповеди и покаяния для Гольдмунда настало счастливое время полноты и мира. Несмотря на работу, полную напряжения, забот, но и удовлетворения, он каждое утро и каждый вечер освобождался от дневных волнений благодаря нетрудным, исполняемым на совесть духовным упражнениям, уносившим все его существо к более высокому порядку, вырывавшим его из опасного одиночества творца и уводившим его, как ребенка, в царство Божие. Если борьбу со своим произведением он должен был выдерживать в одиночку, отдавая ему всю страсть своих чувств и души, то час молитвы опять возвращал его к невинности. Часто во время работы, возбужденный до ярости и нетерпения или восхищенный до наслаждения, он погружался в благочестивые молитвы, как в прохладную воду, смывавшую с него высокомерие как восторга, так и отчаяния.
Это удавалось не всегда. Иной раз вечером после страстной работы он не находил покоя и не мог сосредоточиться и несколько раз забыл про молитвы, и зачастую, когда старался погрузиться в них, ему мешала мучительная мысль, что чтение молитв всего лишь ребяческое стремление к Богу, которого нет или который все равно не может ему помочь. Он жаловался другу.
— Продолжай, — говорил Нарцисс, — ты же обещал и должен выдержать. Тебе не нужно думать о том, слышит ли Бог твою молитву или есть ли вообще Бог, которого ты как-то представляешь себе. Не следует думать и о том твоем якобы ребяческом стремлении к Богу. По сравнению с Тем, к Кому обращены наши молитвы, все наши дела — ребячество. Ты должен совсем запретить себе эти глупые мысли маленького ребенка во время молитвы. Ты должен так читать «Отче наш» и хвалу Марии, так отдаваться их словам и так исполняться ими, будто поешь или играешь на лютне, — ведь в этих случаях ты не предаешься каким-то умным мыслям и рассуждениям, а извлекаешь звуки и совершаешь одно движение пальцами за другим как можно чаще и совершеннее. Когда поют, ведь не думают, полезно пение или нет, а просто поют. Точно так же ты должен молиться.