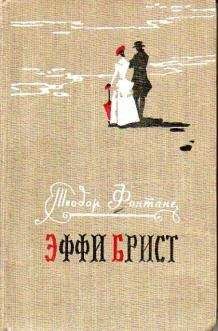Цвикер пришлось согласиться, хотя она прекрасно поняла, что это отговорка. О, она прошла огонь и воду и на лету схватывала, где правда и где неправда.
На вокзал Эффи проводила Афра; она взяла с госпожи баронессы обещание обязательно приехать сюда на следующее лето – кто хотя раз побывал в Эмсе, всегда возвращается снова. После Бонна Эмс самое красивое место на свете.
А госпожа Цвикер меж тем села за письма. Она писала не в гостиной за шатким секретером в стиле рококо, аза тем самым столиком на веранде, где утром она завтракала вместе с Эффи. Ей доставляло удовольствие писать письмо, которое должно будет развлечь ее приятельницу, одну берлинскую даму, отдыхавшую сейчас в Рейхенхал-ле. Эти души давно уже обрели друг друга, и обе дамы старались только превзойти друг друга в чувстве скепсиса, распространявшегося на всех мужчин; они считали мужчин гораздо ниже того, что могло бы снискать их одобрение, особенно так называемых «неотразимых» мужчин. «Все же лучше те, кто от смущения не знает, куда и смотреть, а больше всего разочаровывают донжуаны. И отчего так бывает?!» Таковы были мудрые сентенции, которыми, как правило, обменивались подруги.
Госпожа Цвикер строчила уже второй лист и развивала более чем благодарную тему, называвшуюся, конечно, «Эффи»:
«В целом она была мила, приятна, как будто откровенна, без дворянской спеси (а может быть, просто обладает искусством скрывать ее) и всегда слушала с интересом, если я ей рассказывала что-нибудь интересное, чем я и пользовалась (и заверений в этом, как ты знаешь, не требуется). Стало быть, еще раз: очаровательная молодая женщина, лет двадцати пяти или чуточку больше. И все-таки я не доверяла ее безмятежности, так же как не доверяю ей и сейчас; собственно, сейчас менее всего. Сегодняшняя история с письмом, – о, за этим что-то кроется, даю голову на отсечение. Если я ошибусь, это будет моей первой ошибкой в жизни. То, что она с увлечением говорила о модных берлинских проповедниках и устанавливала меру божественной благодати каждого из них, а также то, что по временам она бросала взгляд невинной Гретхен, который должен был, очевидно, означать, что она не способна воды замутить, только лишний раз подтверждает... Но вот входит наша Афра, красивая горничная, о которой я, кажется, уже писала, и кладет мне на стол газету, которую, по ее словам, мне посылает хозяйка; одно место обведено синим карандашом. Прости, я хочу прочесть, что это такое...
О, в газете есть интересные вещи, они мне как нельзя кстати. Я вырежу место, отмеченное синим карандашом, и вложу его в письмо. И ты убедишься, ошиблась ли я. Кто этот Крампас? Невероятно – писать кому-то записочки, а самое главное – хранить у себя его письма! Для чего же тогда существуют печи и камины? Пока приняты эти дурацкие дуэли, нельзя допускать ничего подобного. Наше поколение не может позволить себе страсть к коллекционированию писем, это дело будущих поколений (тогда это станет, очевидно, безопасно). А теперь до этого еще далеко. Впрочем, мне жаль молодую баронессу, хотя меня и утешает суетное чувство, что я опять не ошиблась. А дело было не так уж просто. Менее сильного диагностика не трудно было бы провести. Как всегда,
твоя Софи».
Прошло три года, и почти все это время Эффи жила на Кениггрецштрассе, между Асканской площадью и Галльскими воротами, где она снимала маленькую квартиру из двух комнат. Окна одной комнаты выходили на улицу, другой – во двор; сзади помещалась кухня с каморкой для прислуги, – все чрезвычайно просто и скромно. Однако это была премиленькая квартирка, нравившаяся всем, кто ее видел, но, кажется, больше всего тайному советнику, старику Руммшюттелю, который, время от времени навещая Эффи, простил бедной молодой женщине (если, вообще говоря, требовалось его прощение) не только давнишнюю комедию с ревматизмом и невралгией, но и все остальное, что случилось потом; ибо Румм-шюттель знал и еще кое-что. Ему теперь было под восемьдесят. Но стоило только Эффи, которая с некоторых пор стала довольно часто прихварывать, прислать ему письмо с просьбой навестить ее, как он приходил на другое же утро, не желая слышать ее извинений, что ему из-за нее приходится высоко подниматься.
– Пожалуйста, не извиняйтесь, сударыня. Во-первых, это моя профессия, а во-вторых, я счастлив, чтобы не сказать горд, что могу, и так хорошо еще, подниматься на четвертый этаж. И если бы я не боялся докучать вам – ведь, в конце концов, я прихожу как врач, а не как любитель природы и красивых видов, – я приходил бы и чаще, просто чтобы повидать вас и посидеть здесь несколько минут у вашего окна. Мне почему-то кажется, что вы недооцениваете этой прелестной панорамы.
– О нет, что вы! – сказала Эффи, но Руммшюттель перебил ее:
– Прошу вас, сударыня, подойдите на минутку к окну, или, лучше, разрешите мне самому подвести вас к нему. Сегодня снова все так чудесно! Взгляните на эти железнодорожные арки, их три, нет, четыре. И все время там что-то движется... А сейчас вон тот поезд исчезнет за группой деревьев... Не правда ли, чудесно! А как красиво освещен солнцем этот белый дым. Было бы просто идеально, не будь за насыпью кладбища Маттей.
– А мне всегда нравилось смотреть на кладбище.
– Да, вам можно так говорить. А нашему брату! При виде кладбища у нас неизбежно возникают печальные мысли и желание как можно дольше не попадать туда. Впрочем, сударыня, я вами доволен и сожалею лишь об одном – вы и слышать не хотите об Эмсе. А Эмс при вашем катаральном состоянии мог бы совершить чудо...
Эффи молчала.
– Да, Эмс мог бы совершить чудо. Но так как вы его не любите (и мне это понятно), тогда придется попить минеральную воду из местного источника. Три минуты ходьбы – и вы в саду принца Альбрехта. И хотя там нет ни музыки, ни роскошных туалетов, словом, никаких развлечений настоящего водного курорта, все же самое главное – это источник.
Эффи не возражала, и Руммшюттель взялся за шляпу и трость. Но он еще раз подошел к окну.
– Я слышал, поговаривают об устройстве террас на Крестовой горе, да благословит бог городское управление. Если бы еще озеленили пустырь там позади... Прелестная квартирка! Я, кажется, вам завидую... Да, вот что я уже давно хотел сказать вам, сударыня. Вы всегда пишете мне такие любезные письма. Кто бы им не порадовался! Но для этого каждый раз нужно усилие... Посылайте ко мне попросту Розвиту!
Эффи поблагодарила, и на этом они расстались.
«Посылайте ко мне попросту Розвиту!» – сказал Руммшюттель. А разве Розвита была у Эффи? Разве она жила на Кениггрецштрассе, а не на Кейтштрассе? Конечно, она жила здесь и притом ровно столько, сколько и Эффи. Явилась она к своей госпоже за три дня до переезда сюда, и это был радостный день для обеих, настолько радостный, что о нем здесь следует рассказать особо.
Когда из Гоген-Креммена пришло письмо с отказом родителей принять ее и Эффи вечерним поездом вернулась из Эмса в Берлин, она решила вначале, что квартиру снимать не будет, а устроится где-нибудь в пансионе. В этом ей относительно повезло. Обе дамы, возглавлявшие пансион, были образованны и внимательны и давно перестали быть любопытными: в пансионе бывало столько жильцов, что попытки вникать в тайны каждого отнимали бы слишком много времени, да и мешали бы делу. Эффи была приятна их сдержанность: она еще не забыла назойливых взглядов госпожи Цвикер, которые ни на минуту не оставляли ее в покое. Но когда прошло две недели, она ясно почувствовала, что вся царившая здесь атмосфера, как моральная, так и физическая, то есть самый воздух, в буквальном смысле этого слова, для нее невыносима.
В столовой пансиона собиралось обычно семь человек: кроме Эффи и одной из владелиц (другая бывала занята по хозяйству вне дома),4к столу являлись две англичанки, посещавшие высшую школу, дама-дворянка из Саксонии, затем очень красивая еврейка из Галиции, о которой никто не знал, чем она, собственно, хочет заняться, и, наконец, дочь регента из Польцина в Померании, собиравшаяся стать художницей. Все вместе они, однако, не составляли удачной компании, особенно неприятной была их надменность в отношениях друг с другом, причем англичанки, как это ни странно, не занимали в этом бесспорно ведущего места, а лишь оспаривали пальму первенства у исполненной величайшего художественного вкуса девицы из Польцина. II все же Эффи, не проявлявшая никакой активности, мирилась бы с гнетом духовной атмосферы, если бы не воздух пансиона. Трудно сказать, из чего он, собственного говоря, состоял, этот воздух, но то, что им нельзя было дышать болезненно чуткой в отношении запахов Эффи, было более чем ясно. И вот, оказавшись вынужденной по этой чисто внешней причине искать себе другой приют, Эффи и сняла недалеко отсюда хорошенькую, уже описанную нами квартирку на Кениггрецштрассе. Она должна была занять ее к началу зимнего сезона, приобрела все необходимое и в конце сентября считала уже часы и минуты, остававшиеся ей до избавления от пансиона.