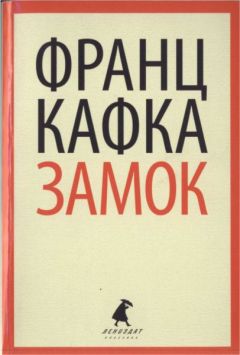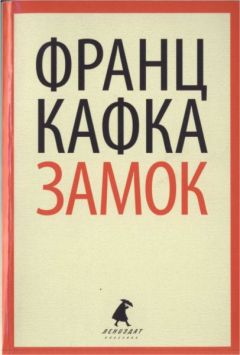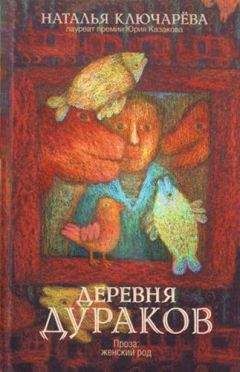Ольга прервала рассказ. Было тихо, слышалось только тяжелое, временами хриплое дыхание родителей. К. небрежно, как бы только резюмируя рассказ Ольги, заметил:
— Прикидываетесь вы передо мной. Барнабас передал мне письмо как бывалый, загруженный делами посыльный, а ты — в точности, как Амалия, которая, значит, на этот раз была с вами заодно, изобразила все таким образом, как будто его посыльная служба и эти письма — так просто, не пришей не пристегни.
— Ты должен нас различать, — сказала Ольга. — Барнабас от двух этих писем снова стал счастливым ребенком, несмотря на все его сомнения в его деятельности. Эти сомнения — только для него и для меня, перед тобой же он старается держать марку, пытаясь вести себя как настоящий посыльный, то есть так, как, по его представлениям, ведут себя настоящие посыльные. И мне, например, — притом что ведь теперь его надежда на получение обмундирования увеличивается, — пришлось два часа так перешивать его брюки, чтобы они стали хотя бы похожи на плотно облегающие брюки форменной одежды и он мог бы перед тобой — тебя ведь в этом отношении, естественно, еще легко обмануть — в них появиться. Таков Барнабас. Но Амалия презирает эту посыльную службу, и теперь, когда, кажется, достигнут маленький успех (она легко может догадаться об этом по Барнабасу, и по мне, и по тому, как мы сидим с ним и шушукаемся), — теперь она презирает ее еще больше, чем раньше. Так что она говорит правду, и ты никогда не сомневайся в этом, не поддавайся заблуждению. Если же я, К., иногда принижала значение посыльной службы, то это было не для того, чтобы обмануть тебя, а от страха. Те два письма, которые прошли через руки Барнабаса, — это первый за три года, впрочем, еще достаточно сомнительный знак милости по отношению к нашей семье. Эта перемена — если это перемена, а не обман: обманы случаются чаще, чем перемены, — связана с твоим прибытием сюда; наша судьба стала каким-то образом зависеть от тебя; быть может, эти два письма — только начало и сфера деятельности Барнабаса расширится за пределы этой, касающейся тебя посыльной службы, мы будем на это надеяться — до тех пор, пока сможем, но пока все тянется только к тебе. Ведь там, наверху, мы должны довольствоваться тем, что нам дадут, но здесь, внизу, мы, наверное, можем все-таки и сами что-то сделать: например, заручиться твоим расположением, или, по крайней мере, предохраниться от твоего предубеждения против нас, или, что самое важное, защитить тебя — насколько хватит наших сил и опытности, — чтобы твоя связь с Замком (которой мы, возможно, могли бы жить) у тебя не пропала. Как же теперь лучше всего за это взяться, чтобы у тебя не возникло никаких подозрений, если мы с тобой сблизимся? — ведь ты здесь человек чужой и поэтому, конечно, полон по отношению ко всему подозрений, — обоснованных подозрений. Кроме того, ведь нас же презирают, и на тебя влияет всеобщее мнение, особенно через твою невесту; как же нам подобраться к тебе, не противопоставляя себя, к примеру, — хотя у нас совсем нет такого намерения — твоей невесте и не задевая тем самым тебя? И эти послания, которые я, прежде чем ты их получил, внимательно прочла (Барнабас их не читал, как посыльный он себе этого не позволял), кажутся на первый взгляд не очень важными, устаревшими и сами себя обесценивают, отсылая тебя к старосте общины. Как же в таком случае нам следовало вести себя по отношению к тебе? Если бы мы подчеркивали их важность, показалось бы подозрительным, что мы переоцениваем такие явно неважные сообщения, и, являясь теми, кто эти сообщения передает, тебе их расхваливаем, то есть преследуем не твои, а свои цели; кроме того, мы же могли уронить в твоих глазах сами эти сообщения и таким образом, крайне того не желая, тебя обмануть. Но если бы мы представили эти письма как не имеющие большого значения, это было бы точно так же подозрительно, так как — почему тогда мы занимаемся доставкой этих неважных писем, почему противоречат друг другу наши поступки и слова, почему мы так обманываем не только тебя, адресата, но также и того, кто дал нам это поручение, ведь он, конечно, не затем передал нам письма, чтобы мы своими объяснениями обесценивали их в глазах адресата? А держаться середины между этими крайностями, то есть правильно судить об этих письмах, просто невозможно: они сами беспрерывно меняют свое значение; размышления, к которым они дают повод, бесконечны, и на чем именно при этом остановишься, зависит только от случая, следовательно, и суждение о них — тоже: случайно. А когда к этому еще добавляется страх за тебя, то уже все перепутывается; ты не должен слишком строго относиться к моим словам. Когда, к примеру, Барнабас, как это однажды было, приходит с известием, что ты недоволен его посыльной службой, и он с перепугу и, к сожалению, тоже не без обидчивости посыльного заявляет, что хочет с этой службы уйти, тогда я, разумеется, чтобы исправить эту ошибку, готова обманывать, лгать, предавать, творить любое зло, если только это поможет. Но тогда — по крайней мере, я так считаю — я это делаю не только ради нас, но и ради тебя.
В дверь постучали. Ольга побежала к двери и открыла. В темноту упала полоса света от чьего-то потайного фонаря. Поздний посетитель шепотом что-то спросил, ему что-то прошептали в ответ, но не удовлетворили этим, и он пытался проникнуть в комнату. Ольга, видимо, уже не могла его удержать и позвала Амалию, очевидно надеясь, что та, охраняя родительский сон, пойдет на все, чтобы удалить посетителя. И действительно, Амалия уже бежала туда; отстранив Ольгу, она вышла на улицу и закрыла за собой дверь. Тут же — это длилось лишь мгновение — она вернулась; так быстро она добилась того, что для Ольги было невозможно.
К. узнал затем от Ольги, что приходили к нему: это был один из помощников, который искал его по поручению Фриды. Ольга решила защитить К. от помощника; если К. захочет впоследствии признаться Фриде, что посетил их, он сможет это сделать, но это не должно было открыться через помощника. К. одобрил это. Однако от предложения Ольги провести у них ночь и подождать Барнабаса он отказался; вообще говоря, он, возможно, и принял бы его, ведь была уже глубокая ночь, и ему казалось, что, хочет он того или нет, он теперь уже так связан с этой семьей, что здесь для него — может быть, неудобное по другим причинам, но, учитывая эту связь, — самое естественное место для ночлега во всей деревне, и все же он отказался от предложения: приход помощника испугал его, ему было непонятно, каким образом Фрида, которая ведь знала его волю, и помощники, которые научились его бояться, снова так сошлись, что Фрида не побоялась послать за ним одного из помощников, кстати — только одного, в то время как второй, очевидно, остался при ней. Он спросил Ольгу, есть ли у нее кнут; кнута у нее не было, но был хороший ивовый прут, К. его взял; потом он спросил, есть ли в доме какой-нибудь другой выход, такой выход был — через двор, но для того, чтобы попасть на улицу, нужно было еще перелезть через забор соседского сада и пройти сквозь этот сад. Так К. и намерен был сделать. Пока Ольга вела его через двор к забору, К. постарался быстро рассеять ее тревоги; он заявил, что за ее маленькие уловки в рассказе он совсем на нее не сердится, а напротив, очень даже ее понимает, поблагодарил за доверие к нему, которое она выказала своим рассказом, и поручил ей сразу же, как только вернется Барнабас, послать его в школу, даже если еще будет ночь. Хотя послания Барнабаса — не единственная его надежда (иначе его дело было бы плохо), но отказываться от них он ни в коем случае не намерен, он намерен за них держаться и не забывать при этом Ольгу, потому что для него очень важна, чуть ли не важнее этих посланий, сама Ольга, ее храбрость, ее осмотрительность, ее ум, ее самопожертвование во имя семьи. Если бы он должен был выбирать между Ольгой и Амалией, ему не пришлось бы долго раздумывать. И уже запрыгивая на забор соседского сада, он еще успел сердечно пожать ей руку.
Выбравшись на улицу, он вверху, поодаль, разглядел, насколько позволяла хмурая ночь, помощника, который все еще ходил взад-вперед перед домом Барнабаса; иногда помощник останавливался и пытался через занавешенное окно посветить в комнату. К. окликнул его, тот без видимого испуга прекратил свое разнюхивание и направился к К.
— Кого ты ищешь? — спросил К. и проверил на колене гибкость ивового прута.
— Тебя, — ответил помощник, подходя.
— А кто ты, собственно? — спросил вдруг К., так как это, кажется, был не помощник.
Он выглядел старше, утомленнее, морщинистей, но круглей лицом, и походка его была совсем не похожа на юркую, словно намагниченную походку помощников, она была медленной, немного хромающей, лениво-расслабленной.
— Ты меня не узнаешь? — спросил человек. — Иеремия, твой старый помощник.
— Так, — сказал К. и снова слегка выставил ивовый прут, который уже было спрятал за спину. — Но ты выглядишь совсем иначе.