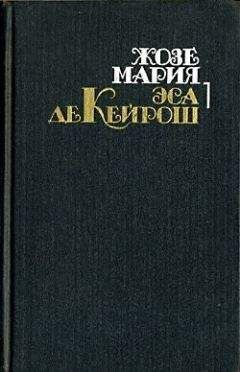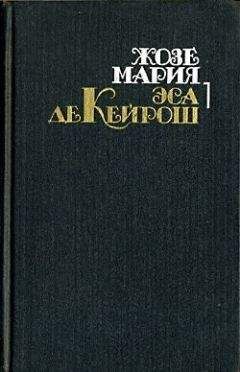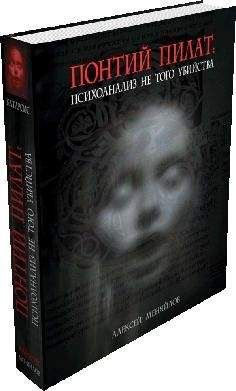Но очень скоро мне пришлось убедиться, что избыток святынь привел к перенасыщению рынка. Наша католическая Португалия, переполненная священными предметами, набитая до отказа, уже не могла вместить ни одной новой реликвии: некуда было сунуть даже засушенные цветы из Назарета, за которые я брал всего по пять тостанов!
Скрепя сердце я снизил цены. Потом поместил на страницах «Новостей» заманчивое объявление: «Сокровища святой земли продаются по сходной цене, справляться в табачной Рего»…
Вскоре дошло до того, что по утрам, надев сутану и спрятав бороду под шелковым кашне, я собственной персоной осаждал у входа в церковь богомольных старух, предлагая им обрывки покрывала пресвятой девы Марии и ремешки от сандалий святого Петра, жарко шепча в накидки и мантильи: «Недорого, милая сеньора! Отдаю совсем по дешевке… Замечательно помогает от насморка!»
Я уже задолжал в «Золотой голубке»; я уже старался прошмыгнуть по лестнице незаметно для хозяина, я уже лебезил перед слугой-испанцем и называл его не иначе как «Андрес, голубчик»… Оставалась лишь одна надежда: что вера снова укрепится! Всякое известие о готовящемся церковном празднестве радовало меня как признак подъема религиозного духа в народе. Я люто возненавидел республиканцев и философов, подрывающих католицизм и, стало быть, сводящих на нет значение признанных им священных реликвий. Я писал статьи в «Нацию», в которых громил нечестие: «Если людям не дороги даже кости мучеников, откуда же быть процветанию в нашей стране?» В кафе у Монтаньи я стучал кулаком по столу: «Нам нужна вера, черт подери! Без веры и бифштекса не проглотишь!» В заведении у Рябой Бенты я грозился, что если девицы не станут носить ладанок и освященных наплечников, то больше ноги моей у них не будет: я перейду к доне Аделаиде! Наконец моя тревога за кусок насущного хлеба достигла такой остроты, что я снова призвал сеньора Лино как человека с широкими церковными связями и родственника многих монастырских капелланов.
Я дал ему взглянуть на кровать, усеянную реликвиями, и сказал, потирая руки:
— К делу, друг мой! Вот свежий подвоз, только что из Сиона!
Но достойный служитель Патриаршей палаты разразился ядовитыми упреками.
— Ваши фокусы не пройдут, милостивый государь! — закричал он, и вены на его покрасневшем лбу надулись от гнева. — Вы испортили всю коммерцию! Рынок перенасыщен! Не идет даже самый ходкий товар — пеленки младенца Христа! Ваша торговля подковами — просто срам! Чистый срам! Вчера капеллан, мой кузен, говорил: «Слишком много подков на такую маленькую страну!» Вы выпустили в продажу четырнадцать подков, милостивый государь! Это просто из рук вон! А известно ли вам, сколько вы распродали гвоздей, которыми Христос был прибит ко кресту? Да еще с аттестатами! Семьдесят пять штук, милостивый государь!.. У меня нет слов… Семьдесят пять!
Он ушел, яростно хлопнув дверью. Я был раздавлен. Но в этот же вечер мне посчастливилось встретить у Рябой Бенты Лоботряса и получить от него заказ на солидную партию реликвий. Лоботряс собирался жениться на девице Ногейра, дочери сеньоры Ногейра, богатой святоши и свиноторговки из Бежи. Ему хотелось «сделать подношеньице старой ханже, что-нибудь этакое… от гроба господня». Я устроил ему прехорошенький сундучок с реликвиями, присовокупив к ним семьдесят шестой гвоздь и украсив подарок засушенными галилейскими цветами. Лоботряс щедро меня вознаградил; на эти деньги я расплатился в «Золотой голубке» и предусмотрительно снял комнату в частном пансионе сеньора Питы, в Соломенном переулке.
Благоденствие мое быстро шло на убыль. Комнатенка, где я поселился, была под самой крышей, на пятом этаже. Там стояла простая железная кровать и ветхое кресло, прогнившее нутро которого вылезало из-под рваной обивки. Единственным украшением моих апартаментов была висевшая над комодом цветная литография в рамке с помпонами; на ней был изображен распятый Христос; грозовые тучи клубились у его ног, а блестящие широко раскрытые глаза следили за каждым моим шагом, наблюдали самые интимные мои дела, вплоть до удаления мозолей.
Я прожил на этом чердаке с неделю, рыская по Лиссабону в поисках пропитания; от моих ботинок уже начали отскакивать подошвы. Но вот в одно прекрасное утро Андре из «Золотой голубки» принес мне письмо со штемпелем «срочное»: оно пришло в гостиницу накануне. На конверте чернела траурная кайма, сургуч тоже был черный. Я вскрыл письмо, дрожа от волнения, и увидел подпись Жустино.
«Дорогой друг! Обливаясь слезами, исполняю тягостный долг и сообщаю вам, что ваша почтенная тетушка, а моя сеньора, скоропостижно скончалась…»
Канальство! Старуха окочурилась!
Глаза мои лихорадочно перебегали по строчкам, натыкаясь на подробности: «воспаление легких», «причастилась», «все рыдали», «верный падре Негран»… И наконец, побледнев и покрывшись испариной, я прочел внизу листка страшные слова: «Из завещания благочестивой сеньоры следует, что племяннику своему Теодорико она оставляет подзорную трубу, которая висит в столовой…»
Лишила-таки наследства!
Я схватил шляпу и, спотыкаясь, побежал на площадь Сан-Пауло в контору Жустино. Он стоял за письменным столом, в траурном галстуке, за ухом у него торчало перо, и он ел бутерброды с телятиной, разложенные на старом номере «Новостей».
— Итак, подзорная труба! — пробормотал я, едва держась на ногах, и прислонился к шкафу.
— Да!.. Подзорная труба! — ответил он с набитым ртом.
Я рухнул в изнеможении на кожаный диван. Жустино предложил мне подкрепиться бусельским вином. Я выпил стакан и, отерев дрожащей рукой лоб, спросил:
— Расскажите же, расскажите все, Жустино…
Жустино вздохнул. Святая женщина оставила ему, бедняжка, на два конто ценных бумаг… в остальном же богатства Г. Годиньо разбросаны самым бестолковым и несправедливым образом. Дом на Кампо-де-Сант'Ана и сорок конто в бумагах жертвуются церкви Благодати божией; акции газовой компании, наиболее ценное серебро и дом на Линда-а-Пастора завещаны отцу Казимиро, который сам лежит при смерти. Падре Пиньейро получил дом на Арсенальной улице. Восхитительное поместье Мостейро с живописными воротами, на которых еще не стерся герб графов де Линдозо, государственные кредитные бумаги, мебель из дома на Кампо-де-Сант'Ана и золотой Христос достались падре Неграну. Три конто деньгами и часы оставлены доктору Маргариде. Висенсия получила постельное белье, а я подзорную трубу.
— Чтобы смотреть через нее на все, что уплыло, — философски заключил Жустино, хрустя пальцами.
Я ушел к себе, в Соломенный переулок. Несколько часов подряд прошагал я по комнате в домашних туфлях, страстно мечтая надругаться над тетушкиным трупом: например, плюнуть в ее синее лицо или проткнуть тростью зловонные внутренности… Я призывал на нее ярость стихий; я молил деревья не давать тени ее надгробью, я молил ветры, чтобы они намели на ее могилу мусор со всей земли; я взывал к сатане: «Возьми мою душу, но только задай перцу старухе!»; потом обращался к небу: «Господи, если у тебя есть рай, выгони ее оттуда!»; я заранее готовился разбить камнями памятник, который ей поставят; я решил послать во все газеты сообщение о том, что тетя Патросинио находилась в гнусной связи с одним испанцем и каждый вечер, в очках и нижней юбке, бегала к нему на чердак.
Наконец, обессилев от ненависти, я уснул мертвым сном.
Поздно вечером меня разбудил Пита: он принес какой-то длинный сверток. Это была подзорная труба. Посылал мне ее Жустино с дружеской запиской: «Вот ваше скромное наследство».
Я зажег свечу. С чувством едкой горечи взял трубу, отвинтил крышку и посмотрел сквозь линзу, как смотрят с корабля, затерянного в океане. Да, Жустино угадал! Ехидная Патросинио завещала мне трубу со злобным, глумливым умыслом: чтобы я смотрел через нее на доставшееся чужим людям наследство! И я видел, несмотря на темноту, ясно видел, как Христос из церкви Благодати божией рассовывает пачки бумаг по складкам своего лилового хитона; я видел, как руки умирающего падре Казимиро шарят по серебряной посуде, сваленной на его смертном одре; я видел подлеца падре Неграна в тиковой сутане и ботах от сырости: он самодовольно прогуливался вдоль берега реки, под вязами нашего Мостейро… А я сижу здесь, с подзорной трубой! А я навеки загнан в Соломенный переулок! В кармане панталон весь мой капитал — семьсот двадцать рейсов, — и с этим надо выходить на борьбу со всем городом, на борьбу с самой жизнью! Зарычав, я отшвырнул трубу… она подкатилась к шляпной картонке, где лежал тропический шлем, свидетель моего странствия по святой земле… Вот они — подзорная труба и пробковый шлем, символы роскоши и нищеты, символы моих двух существований! Лишь несколько месяцев тому назад, когда этот шлем красовался на моей голове, я был счастливцем Рапозо, наследником сеньоры доны Патросинио дас Невес… В карманах моих звенело золото, а вокруг благоухали самые ароматные цветы цивилизации, лишь ожидая, когда мне вздумается их сорвать! А теперь, с этой трубой в руках, я жалкий голодранец Рапозо, в стоптанных ботинках, и меня обступил, нацепив безжалостные шипы, весь чертополох жизни…