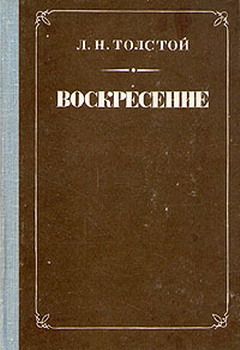Такие же были у оборванных опухших мужчин и женщин, с детьми стоявших на углах улиц и просивших милостыню. Такие же лица были видны в открытых окнах трактира, мимо которого пришлось пройти Нехлюдову. У грязных, уставленных бутылками и чайной посудой столиков, между которыми, раскачиваясь, сновали белые половые, сидели, крича и распевая, потные, покрасневшие люди с одуренными лицами. Один сидел у окна, подняв брови и выставив губы, глядел перед собою, как будто стараясь вспомнить что-то.
«И зачем они все собрались тут?» — думал Нехлюдов, невольно вдыхая вместе с пылью, которую нес на него холодный ветер, везде распространенный запах прогорклого масла свежей краски.
На одной из улиц с ним поравнялся обоз ломовых, везущих какое-то железо и так страшно гремящих по неровной мостовой своим железом, что ему стало больно ушам и голове. Он прибавил шагу, чтобы обогнать обоз, когда вдруг из-за грохота железа услыхал свое имя. Он остановился и увидал немного впереди себя военного с остроконечными слепленными усами и с сияющим глянцевитым лицом, который, сидя на пролетке лихача, приветственно махал ему рукой, открывая улыбкой необыкновенно белые зубы.
— Нехлюдов! Ты ли?
Первое чувство Нехлюдова было удовольствие.
— А! Шенбок, — радостно проговорил он, но тотчас же понял, что радоваться совершенно было нечему.
Это был тот самый Шенбок, который тогда заезжал к тетушкам. Нехлюдов давно потерял его из вида, но слышал про него, что он, несмотря на свои долги, выйдя из полка и оставшись по кавалерии, все как-то держался какими-то средствами в мире богатых людей. Довольный, веселый вид подтверждал это.
— Вот хорошо-то, что поймал тебя! А то никого в городе нет. Ну, брат, а ты постарел, — говорил он, выходя из пролетки и расправляя плечи. — Я только по походке и узнал тебя. Ну, что ж, обедаем вместе? Где у вас тут кормят порядочно?
— Не знаю, успею ли, — отвечал Нехлюдов, думая только о том, как бы ему отделаться от товарища, не оскорбив его. — Ты зачем же здесь? — спросил он.
— Да дела, братец. Дела по опеке. Я опекун ведь. Управляю делами Саманова. Знаешь, богача. Он рамоли. А пятьдесят четыре тысячи десятин земли, — сказал он с какой-то особенной гордостью, точно он сам сделал все эти десятины. — Запущены дела были ужасно. Земля вся была по крестьянам. Они ничего не платили, недоимки было больше восьмидесяти тысяч. Я в один год все переменил и дал опеке на семьдесят процентов больше. А? — спросил он с гордостью.
Нехлюдов вспомнил, что слышал, как этот Шенбок именно потому, что он прожил все свое состояние и наделал неоплатных долгов, был по какой-то особенной протекции назначен опекуном над состоянием старого богача, проматывавшего свое состояние, и теперь, очевидно, жил этой опекой.
«Как бы отделаться от него, не обидев его?» — думал Нехлюдов, глядя на его глянцевитое, налитое лицо с нафиксатуаренными усами и слушая его добродушно-товарищескую болтовню о том, где хорошо кормят, и хвастовство о том, как он устроил дела опеки.
— Ну, так где же обедаем?
— Да мне некогда, — сказал Нехлюдов, глядя на часы.
— Так вот что. Вечером нынче скачки. Ты будешь?
— Нет, я не буду.
— Приезжай. Своих уж у меня нет. Но я держу за Гришиных лошадей.
Помнишь? У него хорошая конюшня. Так вот приезжай, и поужинаем.
— И ужинать не могу, — улыбаясь, сказал Нехлюдов.
— Ну что ж это? Ты куда теперь? Хочешь, я довезу.
— Як адвокату. Он тут за углом, — сказал Нехлюдов.
— А, да ведь ты что-то в остроге делаешь? Острожным ходатаем стал? Мне Корчагины говорили, — смеясь, заговорил Шенбок. — Они уже уехали. Что такое?
Расскажи!
— Да, да, все это правда, — отвечал Нехлюдов, — что же рассказывать на улице!
— Ну да, ну да, ты ведь всегда чудак был. Так приедешь на скачки?
— Да нет, и не могу и не хочу. Ты, пожалуйста, не сердись.
— Вот, сердиться! Ты где стоишь? — спросил он, и вдруг лицо его сделалось серьезно, глаза остановились, брови поднялись. Он, очевидно, хотел вспомнить, и Нехлюдов увидал в нем совершенно такое же тупое выражение, как у того человека с поднятыми бровями и оттопыренными губами, которое поразило его в окне трактира.
— Холодище-то какой! А?
— Да, да.
— Покупки у тебя? — обратился он к извозчику.
— Ну, так прощай; очень, очень рад, что встретил тебя, — сказал Шенбок и, пожав крепко руку Нехлюдову, вскочил в пролетку, махая перед глянцевитым лицом широкой рукой в новой белой замшевой перчатке и привычно улыбаясь своими необыкновенно белыми зубами.
«Неужели я был такой? — думал Нехлюдов, продолжая свой путь к адвокату.
— Да, хоть не совсем такой, но хотел быть таким и думал, что так и проживу жизнь».
Адвокат принял Нехлюдова не в очередь и тотчас разговорился о деле Меньшовых, которое он прочел, и был возмущен неосновательностью обвинения.
— Дело это возмутительное, — говорил он. — Очень вероятно, что поджог сделан самим владельцем для получения страховой премии, но дело в том, что виновность Меньшовых совершенно не доказана. Нет никаких улик. Это особенное усердие следователя и небрежность товарища прокурора. Только бы дело слушалось не в уезде, а здесь, и я ручаюсь за выигрыш, и гонорара не беру никакого. Ну-с, другое дело — прошение на высочайшее имя Федосий Бирюковой — написано; если поедете в Петербург, возьмите с собой, сами подайте и попросите. А то сделают запрос в министерство юстиции, там ответят так, чтобы скорее с рук долой, то есть отказать, и ничего не выйдет. А вы постарайтесь добраться до высших чинов.
— До государя? — спросил Нехлюдов.
Адвокат засмеялся.
— Это уж наивысшая — высочайшая инстанция. А высшая — значит секретаря при комиссии прошений или заведывающего. Ну-с, все теперь?
— Нет, вот мне еще пишут сектанты, — сказал Нехлюдов, вынимая из кармана письмо сектантов. — Это удивительное дело, если справедливо, что они пишут. Я нынче постараюсь увидать их и узнать, в чем дело.
— Вы, я вижу, сделались воронкой, горлышком, через которое выливаются все жалобы острога, — улыбаясь, сказал адвокат. — Слишком уж много, не осилите.
— Нет, да это поразительное дело, — сказал Нехлюдов и рассказал вкратце сущность дела: люди в деревне собирались читать Евангелие, пришло начальство и разогнало их. Следующее воскресенье опять собрались, тогда позвали урядника, составили акт, и их предали суду. Судебный следователь допрашивал, товарищ прокурора составил обвинительный акт, судебная палата утвердила обвинение, и их предали суду. Товарищ прокурора обвинял, на столе были вещественные доказательства — Евангелие, и их приговорили в ссылку. — Это что-то ужасное, — говорил Нехлюдов. — Неужели это правда?
— Что же вас тут удивляет?
— Да все; ну, я понимаю урядника, которому велено, но товарищ прокурора, который составлял акт, ведь он человек образованный.
— В этом-то и ошибка, что мы привыкли думать, что прокуратура, судейские вообще — это какие-то новые либеральные люди. Они и были когда-то такими, но теперь это совершенно другое. Это чиновники, озабоченные только двадцатым числом. Он получает жалованье, ему нужно побольше, и этим и ограничиваются все его принципы. Он кого хотите будет обвинять, судить, приговаривать.
— Да неужели существуют законы, по которым можно сослать человека за то, что он вместе с другими читает Евангелие?
— Не только сослать в места не столь отдаленные, но в каторгу, если только будет доказано, что, читая Евангелие, они позволили себе толковать его другим не так, как велено, и потому осуждали церковное толкование. Хула на православную веру при народе и по статье сто девяносто шестой — ссылка на поселение.
— Да не может быть.
— Я вам говорю. Я всегда говорю господам судейским, — продолжал адвокат, — что не могу без благодарности видеть их, потому что если я не в тюрьме, и вы тоже, и мы все, то только благодаря их доброте. А подвести каждого из нас к лишению особенных прав и местам не столь отдаленным — самое легкое дело.
— Но если так и все зависит от произвола прокурора и лиц, могущих применять и не применять закон, так зачем же суд?
Адвокат весело расхохотался.
— Вот какие вопросы вы задаете! Ну-с, это, батюшка, философия. Что ж, можно и об этом потолковать. Вот приезжайте в субботу. Встретите у меня ученых, литераторов, художников. Тогда и поговорим об общих вопросах, — сказал адвокат, с ироническим пафосом произнося слова: «общие вопросы». — С женой знакомы. Приезжайте.
— Да, постараюсь, — отвечал Нехлюдов, чувствуя, что он говорит не правду, и если о чем постарается, то только о том, чтобы не быть вечером у адвоката в среде собирающихся у него ученых, литераторов и художников.
Смех, которым ответил адвокат на замечание Нехлюдова о том, что суд не имеет значения, если судейские могут по своему произволу применять или не применять закон, и интонация, с которой он произнес слова: «философия» и «общие вопросы», показали Нехлюдову, как совершенно различно он и адвокат, и вероятно и друзья адвоката, смотрят на вещи и как, несмотря на все свое теперешнее удаление от прежних своих приятелей, как Шенбок, Нехлюдов еще гораздо дальше чувствует себя от адвоката и людей его круга.