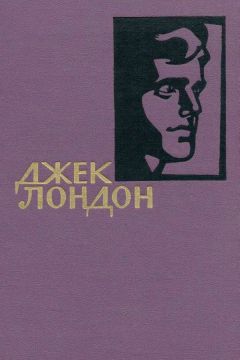Социалисты держались крепко. В то время как партия фермеров погибала в огне и крови, а профсоюзы разгонялись, социалисты воздерживались от всяких выступлений и готовились к уходу в подполье. Напрасно наши друзья из фермерской партии взывали к нам. Мы правильно возражали им, что всякое наше вмешательство грозило бы гибелью делу революции. Железная пята, не решавшаяся сперва выступить против всего пролетариата в целом, теперь, приободренная легкой победой, только и мечтала свернуть нам шею. Но мы сохраняли полное самообладание, несмотря на усилия провокаторов, которыми кишели наши ряды. В те времена агенты Железной пяты действовали неумело — им еще только предстояло пройти серьезную школу, — и наши боевые группы вылавливали их одного за другим. Это была тягостная, грязная работа, но мы боролись за жизнь и за революцию, и нам приходилось сражаться с врагом его же оружием. Все же мы придерживались справедливости. Ни один агент Железной пяты не был казнен без суда и следствия. Если и случались ошибки, то лишь как исключение. В боевые группы шли самые храбрые, самые энергичные и преданные революции товарищи. Спустя десять лет, на основании сведений, сообщенных ему начальниками боевых групп, Эрнест занялся статистикой. Оказалось, что вступавшие туда мужчины и женщины могли рассчитывать в среднем не больше чем на пять лет жизни. Это были герои. Принципиальные противники убийства, они шли на убийство, стиснув зубы, считая, что великое дело свободы требует великих жертв[99].
Мы ставили себе тройную задачу: во-первых, вылавливание подосланных к нам агентов олигархии; во-вторых, организацию боевых групп и всего революционного подполья; в-третьих, засылку наших агентов во все организации олигархии, а также в армию и рабочие касты. Они проникали туда под видом секретарей и конторщиков, телеграфистов, надсмотрщиков над рабочими и провокаторов. Это была работа, требовавшая времени и сопряженная с величайшей опасностью. Все наши усилия зачастую приводили только к неудачам и тяжелым потерям…
Железная пята победила в открытой войне. Но мы объявили ей другую, еще неведомую, странную и страшную подпольную войну. Мы воевали в потемках, наугад, слепые со слепыми, — однако в этой борьбе был свой порядок, дисциплина, единодушие. Наши агенты проникали во все организации Железной пяты, а в наших организациях гнездились ее агенты. Это была война втемную, коварная и увертливая, обе стороны изощрялись в интригах и конспирации, заговорах и контрзаговорах. А за всем этим постоянной угрозой маячила смерть, жестокая, насильственная смерть. Мужчины и женщины, наши лучшие, любимейшие товарищи, исчезали без следа. Сегодня мы еще видели друзей в своих рядах, а завтра уже не досчитывались их и знали, что это — навсегда, что они сложили голову в борьбе.
Никому нельзя было довериться, ни на кого нельзя было положиться. Человек, который работал рядом с вами, был, возможно, агентом Железной пяты. Мы минировали ее организации своими агентами, а она своими контрминировала наши организации. И хотя мы не имели права кому-либо довериться или на кого-нибудь положиться, каждый шаг поневоле основывался на доверии. То и дело мы сталкивались с изменой. Были среди нас и слабые люди. Железная пята располагала приманками в виде денег, праздности и удовольствий, которые ждали предателей в чудо-городах. Нашей же единственной наградой было чувство удовлетворения от сознания исполненного долга. В остальном воздаянием за верность была вечная опасность, нескончаемые муки и смерть.
Повторяю, попадались среди нас и слабые люди. И за слабость мы могли отплатить им только смертью. Необходимость заставляла нас карать предателей. По следам каждого обнаруженного изменника мы немедленно направляли от одного до десяти мстителей. Иногда нам не удавалось привести в исполнение приговор над врагом, как это было, например, с Пококами; но в наказании предателей мы не имели права на неудачу. Товарищи по нашему решению под видом перебежчиков проникали в чудо-города и там приводили приговор в исполнение. В конце концов мы стали для предателей такой грозой, что безопаснее было верно служить нам, чем изменять.
Революция приобрела характер религиозного движения. Мы приносили жертвы на алтарь революции, на алтарь свободы. Нас сжигал ее божественный огонь. Мужчины и женщины отдавали жизни Великому Делу, и новорожденные младенцы посвящались ему, как некогда посвящались богу. Мы поклонялись Человечеству.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. ЛИВРЕЙНЫЕ ЛАКЕИ
После усмирения фермеров их представителей больше не видели в конгрессе. Всем им было предъявлено обвинение в государственной измене, и места их заняли ставленники Железной пяты. Социалисты оказались теперь в ничтожном меньшинстве; каждый из них понимал, что конец близок. Заседания сената и палаты превратились в фарс, в пустую проформу. Там все еще обсуждались и решались какие-то вопросы, но теперь это нужно было только для того, чтобы придать мандатам олигархов некую видимость законности.
Эрнест оказался в самой гуще борьбы, когда настал неизбежный конец. В конгрессе обсуждался законопроект о помощи безработным. Кризис прошлого года снизил жизненный уровень пролетарских масс до голодного существования, а охватившие страну неурядицы довершили дело. Миллионы людей нуждались в хлебе, между тем как олигархи и их приспешники не знали, куда девать свои несметные богатства[100]. Для облегчения участи этих бедняков, которых мы называли «обитателями бездны» [101], социалисты внесли в конгресс законопроект о безработных. Естественно, это не нравилось Железной пяте. Она собиралась на свой лад использовать труд голодных миллионов, и участь нашего проекта была предрешена. Эрнест и его товарищи понимали, что хлопочут напрасно, однако их томила неопределенность положения. Они хотели, чтобы кончилось наконец это напряженное ожидание, и, не видя в своей деятельности никакого проку, считали, что лучше разделаться с постыдным фарсом, в котором им приходилось быть невольными участниками. Никто из них не представлял себе, каков будет конец, — во всяком случае, он превзошел самые худшие их опасения.
В тот день я сидела на галерее, в местах для публики. Все мы были охвачены ожиданием чего-то ужасного. Угроза носилась в воздухе, мы видели ее воплощение в шеренгах солдат, заполнявших коридоры, и в офицерах, кучками толпившихся у всех выходов. По всему чувствовалось, что олигархи готовят удар. Трибуну занимал Эрнест. Он говорил об ужасах безработицы с таким жаром, как будто и вправду был одержим безумной надеждой тронуть сердца своих слушателей. Но республиканцы и демократы только издевались над ним. В зале стоял невообразимый шум.
Внезапно Эрнест переменил тон и перешел в открытое наступление.
— Я знаю, что не в силах убедить вас, — сказал он. — Убедить можно только того, у кого есть ум и сердце, но не вас, бесхребетная, бездушная слякоть! Вы преважно именуете себя демократами и республиканцами. Ложь все это! Нет никаких демократов и нет никаких республиканцев, и прежде всего их нет в этом зале. Вы блюдолизы и сводники, холопы плутократии! Бия себя в грудь, вы разглагольствуете о свободе. Но кто же не видит на ваших плечах багряной ливреи Железной пяты?
В зале поднялись крики: «Долой!», «К порядку!», и голос Эрнеста потонул в общем реве. Он с презрительной усмешкой ждал, пока шум немного утихнет, потом повел рукой на сидевших в зале и, повернувшись к своим товарищам, сказал:
— Послушайте, как лают эти раскормленные псы!
В зале снова воцарился ад. Председатель изо всех сил стучал молотком, вопросительно посматривая на офицеров в проходах. Отовсюду неслись крики: «Измена!», а дюжий бочкообразный депутат от Нью-Йорка, повернувшись к трибуне, орал во всю глотку: «Анархист!» На Эрнеста страшно было смотреть. Каждый его мускул был напряжен, глаза налились кровью. И все же он владел собой и ничем не выдавал душившего его бешенства.
— Помните! — крикнул он громовым голосом, перекрывшим шум в зале. — Как вы теперь расправляетесь с пролетариатом, так он когда-нибудь расправится с вами.
Возгласы «Измена!» и «Анархист!» усилились.
— Я знаю, вы собираетесь провалить наш законопроект, — продолжал Эрнест. — Вам приказано его провалить. А вы еще меня зовете анархистом! Вы, отнявшие власть у народа, вы, бесстыдно щеголяющие в лакейской ливрее, зовете меня анархистом! Я не верю в вечный огонь и кипящую серу преисподней, но иногда я готов пожалеть о своем неверии. В такие минуты, как сейчас, я готов в них верить. Ад должен существовать, потому что ни в каком другом месте вам не воздастся в полной мере за ваши преступления. Нет, пока такие, как вы, не перевелись на свете, вселенной, видимо, не обойтись без адского огня.