Что верно, то верно. Мой земляк Иван Афанасьевич Неуступов (ныне покойный) рассказывал мне, как до революции пороли одного мужика за пьянство. Начальство приехало. Собрали сельский сход. Решили: «Дать ему пятнадцать горячих!» Староста принес виц — ивовых прутьев. Мужика в земскую избу на скамью. «Я тебя хлестну, — староста говорит, — а хлестну-то не шибко. А ты шибче кричи». Так и сделали. Крик слышали даже на улице. Пристав заходит в избу: «Хватит, хватит ему! Довольно». Только после этого рассказа мне стали понятны слова гениального автора «Мертвых душ»: «Вынувши из кармана табакерку, ты потчеваешь дружелюбно каких-то двух инвалидов, набивающих на тебя колодки». Рисунок художника Лаптева, изображающий эту сцену, просто великолепен. Представим теперь, как по-разному написали бы на сюжет Ивана Афанасьевича такие, например, писатели, как А. Иванов и В. Распутин, оба, кстати, сибиряки.
Но, может быть, существуют в жизни сюжеты, различным толкованиям неподвластные?
В той же книге очерков я упоминал о рукописи пословиц, написанной еще при живом Пушкине. Рукопись, оказывается, побывала в руках одного известного московского писателя. Но, видимо, не заинтересовала его. Хозяйка ее Зинаида Ивановна Казакова сообщила:
«Тетрадь найдена в доме д. Савинской, Тигинской волости Вожегодского района Фокиной Евдокии Александровны, вдовы после, русско-японской войны — Евдокия Александровна рассказала мне, а ей поведала эту историю бабушка свекрови. У мужа Евдокии Александровны был прапрадядя Рокин. Он служил в Питере двадцать пять лет, был денщиком у генерала. Отслужился, пришел в Тигину. Земли нет, семьей не обзавелся. А муж и деверь Евдокии Александровны говорили свысока, были «фартовые», видно уж порода такая. Ну и солдат такой. Генеральша его полюбила. После смерти генерала приехала в Тигину. А солдат уже похоронен. Стала она жить у одних хозяев. Развела кошек. Однажды кошка напачкала в сеяльницу. Вызвали священника Измайлова — фамилия Измайловых возглавляла Никольскую церковь триста лет. Он молебен с водосвятием отслужил, отругал хозяев, что летом, мол, надо работать, а не водосвятие делать. Генеральшу велел прогнать. И повезли ее на телеге в г. Кириллов. Тетрадка от генерала осталась. Евдокия Александровна говорила мне: «Возьми, к вам много хороших людей ездит, может быть, кто и прихитит, а потом и к делу притулит». Через год тетрадь мне передала ее дочь, моя сверстница. Я очень рада, что желание Евдокии Александровны исполнилось — тетрадь прихичена и притулена к делу. Я старая, мне восемьдесят один год, и полуслепая, уж извините такое многословие. А будете в Москве, заезжайте ко мне на 16-ю Парковую…»
Зинаида Ивановна извинялась за многословие… Между тем в свои восемьдесят с лишним лет она сумела на одной странице рассказать интересную историю генеральской рукописи. Уверен, что ей помогло в этом чувство сюжета. Ясно, что если б известный писатель заинтересовался этой историей, он рассказал бы ее совсем по-другому, он наверняка расставил бы эмоциональные ударения. И все это было бы интересно. Но мне, человеку искушенному в писательстве, интересен больше рассказ Зинаиды Ивановны — беспристрастный, объективный и краткий. Даже в эпизоде с кошкой и сеяльницей она сумела удержаться от всяких оценок… Может быть, это и есть главный признак в определении сюжета?
Тот же Иван Афанасьевич Неуступов рассказывал мне, как, будучи молодым парнем, возвращался из бурлацкой поездки, куда подавался из-за ссоры с отцом. Около волостного правления шли торги. Продавали имущество, описанное за недоимки. И вдруг он увидел, что продают их корову. При третьем ударе молотка он повысил цену. И… пришел домой вместе с коровой. Отец будто бы упал к нему в ноги. Не помню кто рассказывал мне другой случай, связанный с Кумзерской ярмаркой. Бедный и деликатный мужик приехал продавать жеребенка. На ночлеге знакомая старушка, дальняя родственница, попросила его взять на хранение несколько ценных бумаг. На время, пока она ездит в гости. Он согласился. Старушка съездила в гости, ждет — пождет, а мужика нет. Неделю его нет, месяц. Старушка решила, что сама виновата… И вдруг однажды у крыльца останавливаются дрожки. Мужик, одетый как богатый купец, кинулся ей в ноги: «Прости Христа ради!» Он вернул ей облигации в тройном размере.
Обе истории, как видим, заканчиваются одинаково: земным поклоном, неутоленной жаждой прощения и самим прощением. Ни та, ни другая не могли бы произойти ни с немцем, ни с англичанином. В устных народных сюжетах всегда присутствовал элемент некоторой сентиментальности. Мешало ли это главному значению подобных сюжетов, заложенной в них нравственной назидательности? Мне представляется, что нет, не мешало. Конечно, при определенном желании и подготовке оба случая можно истолковать в любом и даже противоположном смысле. Например, старушку изобразить растяпой, а мужичка — проходимцем. Народная фантазия и молва всегда отдавали предпочтение первому, а не второму способу изображения событий. Документальная верность при этом была вовсе не обязательной. Но, как я уже говорил, относительно многообразия сюжетов сама жизнь успешно соперничает с народной и писательской фантазией. Остаются втуне если не тысячи, то сотни, я бы сказал, первоочередных сюжетов, они прямо-таки валяются под ногами наших писателей и жанровых живописцев. А жизнь следует дальше, она уносит в прошлое эти сюжеты. О моей родине писал когда-то хороший писатель Александр Тарасов. (Он погиб на войне.) Это был действительно хороший писатель. Но сейчас сюжеты его рассказов и повестей меня, читателя, не устраивают, он писал свои произведения не по главным, а по второстепенным сюжетам (я мог бы это легко доказать, сравнивая тарасов-ские сюжеты с теми, которые преобладали в 20-х годах на моей родине — в Харовском и Вожегодском районах нашей области). И самое интересное то, что писатель-то не виноват, у него не было ни временных, ни общественных возможностей, чтобы воплотить в своих произведениях то, о чем теперь мне, читателю, прочесть было бы просто необходимо. И тем не менее ничто в народной жизни не проходит бесследно — ни хорошее, ни плохое.
Народная память фиксирует все, ч го произошло или происходит сейчас. Мои земляки, например, во всех деталях помнят единственное убийство в деревне, случившееся во время первых колхозных лет на почве любовной ревности.
Если же взять социально-бытовые сюжеты или сюжеты, связанные с общенародными трагедиями (гражданская война, например), то здесь нашим историческим писателям непочатый край работы. Отголоски коллективизации 29 — 30-х годов до сего дня слышатся хотя бы в том же Тигине, куда приезжала влюбленная генеральша. Причем отголоски трагического свойства.
Любовные, семейные и прочие сюжеты тесно переплетаются с сюжетами, так сказать, социально-общественными.
Межурская волость до революции была богаче нашей Сохотской. Больше пахотной земли, дома ядренее, народ красивей, породистей, и межурские девицы относились к нашим парням надменно и свысока. Они то и дело отказывали нашим женихам. Но вот пришли 29–30 годы, и многие наши второсортные холостяки без всяких затруднений начали высватывать лучших тамошних «славутниц». Не прозевали, изловили момент…
В начале тридцатых годов любовные сюжеты были сдобрены появлением в наших краях красивых украинских девчат. (Здесь мне хочется привести один сюжет, но я берегу его для продолжения «Канунов».) За бортом литературного корабля оказались сюжеты, рожденные введением так называемых алиментов, лесозаготовок и прочих новшеств. Все это было в 30-х годах.
Великая Отечественная война за два-три года удвоила число неиспользованных сюжетов. Рассказ А. Толстого «Русский характер» представляется мне чуточку неестественным. Платоновские рассказы о военной поре позаимствовали из жизненной, народной копилки лишь малую долю. Паустовский, кажется, вообще избегал в своем творчестве трагических сторон народной жизни. По-видимому, в будущем должен появиться (если уже не появился) писатель, способный написать рассказ или повесть, в основе которой… ну, например, конфликт между вернувшимися фронтовиками и вдовами погибших (на фронте. А сколько в запасниках народной памяти сюжетов о председателях колхозов! Но здесь речь уже о теме и литературных типах. Вернемся снова к сюжету.
Председатель колхоза в 30-х годах и во время войны — фигура, вернее, должность вполне трагическая. Вокруг этой должности, вокруг колхозной конторы сюжеты так прямо и вьются и гудят, подобно летним шмелям. Ошибочно думать, что этот гул затихает в послевоенные годы. Налоги, займы, МТС, укрупнения (неоднократное укрупнение хозяйств было очень похоже на то, что происходило осенью 29 года), кукуруза, целина, перевод в совхозы, паспортизация, неперспективность. Каких только сюжетов не народилось вокруг всех этих явлений! Но писатели по-прежнему держали сюжет в черном теле. Чехов, Бунин, Пришвин открыли дорогу лирической, бессюжетной прозе. Мода на зарисовки, этюды, записки из блокнота не была, вероятно, случайной. Ведь существовал уже и бессюжетный роман. Даже в драматургии стало необязательным выстраивать событийный ряд. Помнится, моя повесть «Плотницкие рассказы» заканчивалась известием о том, что Олеша Смолин умер. Авинер Козонков идет делать ему гроб и начинает делать на гвоздях, а не на шипах, как договаривались. Было первое апреля. «Покойник» в бешенстве вскакивает: «Мы как с тобой договаривались, мать-перемать!» Козонков оправдывается так: «А откуда я знал, что ты не взаправду умер?» Как будто если б Олеша умер взаправду, то он, Авинер, выполнил бы договор…

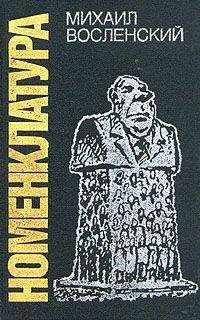
![Хол Клемент - Огненный цикл [ Экспедиция "Тяготение". У критической точки. Огненный цикл]](https://cdn.my-library.info/books/68644/68644.jpg)

