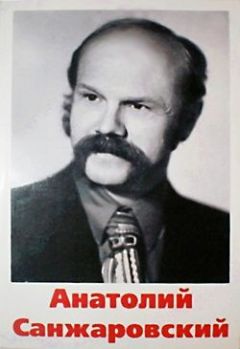держусь? Без этой травочки я б, раскидистый дубиньо, давно б не увял?… В одной ветхой книженции я вычитал, будто «всякий покойник вратарю царства небесного должен предъявить складень с изображением содеянного им при жизни“.
Думишка занятная. Будь такой вратарь и в самом деле, что б я ему предъявил? Что? Ну разве предъявишь то, что тридцать лет Таёжкины травы давали мне жизнь, давали силы, и я употреблял те силы лишь на то, чтоб бить саму же Таёжку? У Фили пили, Филю и колотили… Не подловатенько ли, сударь? Не дай она мне трав, я б ещё когда навсегда затих и навсегда кончились бы её мучения… Её больше нет… Так она и не выскочила из-под моей дуги… Но без неё, парадокс, нет жизни и мне. Без неё к чему мне моя жизнь? Без неё я примру, как муха в первый холод… Её больше нет… Оттуда ничего её не пришлют мне на рецензирование…
В эти тридцать лет я не только в рецензиях, но и на всех борских перекрестках мешал борец и Таёжку с грязью. Увы, барса за хвост не берут! Взяв же, не отпускают до победного. Иначе что я, монументальная пустота, мог делать? Подсади Таёжку на трон, а сам иди по Сибири с рукой? Пока ещё не родилась та курочка, чтоб не рвалась на насест повыше…
В последней рецензии, может, я расчирикал бы всю правду о борце, о её чудо-методе, угни она свою гордыньку хоть на срезанный ноготочек, подкорись хоть для вида, яви хоть бледный намёк на почтительность. Ты яви из милости хоть малое расположеньице, и разве я без понятий, разве не помягчел бы, как ягодка на солнушке?
Нет, как я и ожидал, не явила… Ну и парочка ж мы с нею… Она — задериха, я — неспустиха… Ну, что ж… У Кребса память прочная. Он может продлить срок своей немилости, и он продлил…
И зачем всё это? Зачем?
Обидела, видите. В соавторы не взяла. Подумаешь! Пережил я эту трагедь, не умер. Что соавторство! Если честно, какую взятку она мне дала! Тридцать лет жизни поднесла на блюдечке с каемочкой! И о каком соавторстве мог я думать? Тридцать лишних лет жизни ни в какие гонорары за соавторство не впихнёшь. Да, не впихнёшь!..
А между тем дельце повернулось… Остаюсь я совсем один. Горе одинокому… Ни роду ни плоду… Я должен прорываться к тем толпам, что в её доме толкутся. Надо вовремя перепорхнуть к большинству. Сама судьба подаёт удачнейший повод. Похороны! О покойниках хорошо или ничего!.. Зачем же ничего? Я согласен на… Я согласен почти на хорошо. Вот и распою… Начну… А как начать?… Люди! Вот перед вами остепенённый профэссорством ночной тать? Не пойдёть… Очень-то себя топтать негоже. Но легохонько побить себя на народе, простучать себе грудинку нелишне. Для убедительности… А любопытно, почему я, таёжная дуря-буря… Почему меня никто не осмелился и разу потрепать? Испугались, попадёт на веники? Профэс-сорской убоялись бирки? А показать задний угол хоть раз стоило и время от времени потом повторять для профилактики. За одного ж битого двух небитых дают, да и то не берут…»
Пятые кряду сутки рёвом ревела чёрная пурга, и особенно неистощимо-горько плакала она впристон в последнее утро, в похороны, — отпевала Таисию Викторовну.
Уже в трёх шагах всё было ночь.
Эта чёрная сумятица в руку была Кребсу.
Короткотелый, тушеватый, носастый, во всём чёрном, одновременно похожий и на вóрона, и на рака, он, подпираясь палками — в каждой руке чернело по палке, — трудно тащился обочь похорон, в отдальке, так что похоронники его не видели.
Чтоб острей рассмотреть, он нетерпяче заскакивал сзади то с одной стороны, то с другой — кружил по дуге будто коршун, гнавшийся за добычей. Временами он исподлобья кидал летучие, боязкие взгляды в тех, кто шёл за гробом — покойницу несли на руках, — но на сам гроб не решался поднять глаза. Однажды ненароком все же глянул — весь гроб был в белых замерзших цветах.
«Ты требовала, minibus date lilia plenis»! [86] И ты получила…»
Какое-то время Кребс брёл рядом со всеми, и никто не обратил на него внимания.
«Меня здесь не знает ни одна душа», — подумалось успокоенно, и больше он не стал прятаться за чёрные лохмы пурги, а пошёл в толпе, приворачивая ближе к старушке вопленице, ладясь ясно слышать каждое её слово:
— Как на сем да на белом свету
Одно красно пеке солнышко,
Единó живет желаньицо.
Ой, не дай да Боже, Господи,
Земли-матушки — без пахаря,
Расти девушке без матушки.
Ветры виют потихошеньку,
Ан приходит холоднешенько
Сиротинкам, красным девушкам.
Ты пожалуй, моя матушка,
К горе-горькой сиротиночке,
Ко позяблой семьяниночке
Во любимое гостебище; [87]
У дверей стоят придвернички,
У ворот да приворотнички,
По дорожке — стережатыи,
По пути да бережатыи.
Дубовы столы поставлены,
Яства сахарны наношены,
Хоть не сахарнии — сиротскии.
Ты когда придешь-посулишься:
По весне то ли по красной,
Аль по летушку по теплому,
Аль по осени протяжной,
Аль по зимушке холодной?
Не могу, бедна горюшица,
Пораскликать, поразговорать
Я родитель, свою матушку;
Знать, убралось-упокоилось,
Тепловито мое солнышко,
Во погреба да во глубокии,
За лесушка за темныи,
За горы за высокии,
Заросла да заколодила
Путь-дороженька широкая
К тепловиту красну солнышку.
Вот пройдет зима холодная
И настанет весна красная,
Разольются быстры реченьки,
Налетят да птички-ластушки,
Серы — малые загозочки; [88]
Запашут пахарьки в чистых полях,
Затрубят пастушки в зеленых лугах,
Засекут секарки во темных лесах;
От тебя же, красно солнышко,
Не придет вестка-грамотка
К горе горькой красной девушке.
Не сплывать, знать, синю камышку поверх воды,
Не вырастывать на камешке муравой траве —
Не бывать в живых родимой моей матушке.
Как во эту пору-времечко
Без тебя, да красно солнышко,
Развилося, разорилося
Наше вито тепло гнездышко;
Все столбы да пошатилися,
Все тынишки раскатилися;
Нонь не знаю я, не ведаю,
Мне куда да прикачнутися,
Сиротинке горе горькоей…
Плач показался Кребсу странным.
Конечно,