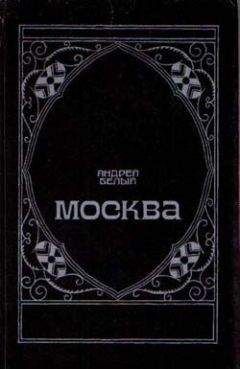Отпрыгнула, точно кузнечик.
– Шаги…
В коридор.
И увидела: вдвое: —
– летит Никанор, завилявши протертым пальтишком; с плеча – шоколадного цвета слетающий шарф.
Он кивочки раздаривает.
Следом —
– с натиском, с вертким притопом двух валенок, выставив бороду, спрятав лицо за очки черно-синие – в полушубенке, залапив шапчонку, —
– за ним чешет —
– Тителев!
____________________
Тителев, – вытянув шею и щеки втянув, точно сеттер на стойке, стал гибкою выдержкой мускулов, перемуштрованных в нервы, в пороге, как вкопанный, выпыхнув дымом из трубки, которую крепко затиснул в зубах.
И взусатясь, он спину согнул пред профессором:
– Терентий Тителев: к вашим услугам!
Професор присел перед ним, руки выбросив и сотрясая хрустальный графин; и графин, на стене отразясь, живортутной игрой передрызнулся, точно летучим алфавитом; и проиграли морщинки на лбу, —
– как далекий военный оркестр на параде —
– зарю…
Сухо шаркнул:
– Коробкин!
– К нам?
– Да-с!
– Треблагое решение.
– Да-с!
Как клыком отделившимся, усом моргнул; и сел в кресло, – к окошку, и ждал, когда тронутся.
Тителев ждал терпеливо в пороге у солнечнотенной стены, точно в пятнах янтарного мрамора, на чемоданы покашиваясь, ожидая, когда что схватить; Серафиме казалось, что – крадется; глазом ее изучал: она юркий овалик лилового цвета.
Он статью ее любовался, когда, надевая мехастую шубку, царапаясь в воздухе носиком и отрясая браслетку, которую ясненький лучик на ручке ее застегнул, она топнула ножкой себе, не ему, – на ей все обнаживший в нем взгляд.
Но никто не заметил: ни легкого топа, ни легкого взгляда за окном, где наст становился сплошною блесной; в пятнах ясных, как в яблоках, зыбились стены: от зыби за окнами.
Трубочный дым разлетался сапфирно и солнечно.
Уж Никанор, ухватив чемодан, в дверь торпедою вылетел: грудка – колесиком; красненький носик – торчком; блеск очков – паровозики.
Тителев ловко рукою другой чемодан захвативши, глазами блеснувши —
– понесся —
– в светлейшую даль коридора: по солнечным зайчикам.
Там, в отделениях, грустно не смел к ним приблизиться Тер-Препопанц, потому что боялся: в угле коридора – сидел, как в дыре, Николай Николаевич, точно тарантул, готовый подбросить под солнце свое восьмилапое брюхо.
____________________
Профессор в клокастую шубу полез.
Серафима не двинулась, но отвернулась, взглянула в окно, как там все золотеет; и скоро звездою повиснет свободное небо!
Глаза призакрылись, закрытые ручкою:
– Сядем!
В глазах, опускаемых в муфту, – покой.
– Ну?
– И – встали.
И – бухнуло дверью подъездною прошлое.
– Тронемся!
Он нахлобучил колпак; и – заплатой пошел, припадая на правую ногу, по солнечным зайчикам, по саламандровым вспыхам; два ботика шаркало, как по светам.
Серафима же белкой, размахиваясь локоточками, вправо и влево, – бежком, мимо Тер-Препопанца, стоявшего с цветиком, но не посмевшего цветик вручить: на подъезд.
О, какой светозарный мороз!
Око выпило солнце, как чарку вина; запылало, как пламенем, небо; он встал над подъездом, сребрясь бородой в светозарный мороз, разметнувшись полой меховой, приседая и падая за спину, носом кидаяся в небо.
Он видел: в зените стоит васильковое, косное небо; под ним – земной шар – круто выгнутая в бесконечность дуга, на вершине которой —
– он встал.
Он почувствовал в это мгновенье: линейное время, история, круто ломаясь в дуге, становилось – спиральное время; и все понеслось кувырком: все проекции будущего опрокинулись в прямолинейное прошлое – отсветом прошлого: прошлое тронулось, перегоняя себя, под углом, равным, – ясное дело, – смещению замкнутой орбиты третьего принципа – Кепплера!
Понял: отныне – никто ничего не поймет: кончен век Аристотеля ясного.
Встал – Гераклит!
Круть – и сзади, и спереди: о, как прекрасна вселенная, как темен свет!
Пятна черные!
Он поглядел в мир ветвей, белых инеев, ставших сквозным одуванчиком, – сквозь одуванное, в синие воздухи, через вселенную.
И – удивился он сеточке солнечной: на рукаве.
Борода заходила, взвеваяся белыми гребнями; бросил свои разведенные руки ладонями вверх – Галзакову, стоявшему рядом, ронявшему слезы:
– Не всутерпь!
– Не плачь, Николай!
Рукавом пригласив его в синие воздухи, острым концом колпака махнул в ботик, как кланяясь —
– трупу упавшего мира!
Увидел ступень.
И – – он —
– медленно стал опускаться, лицо запахнув и полами ступени обметывая.
И колпак теневой перед ним из-под ног побежал, каблуками отброшенный, как многомерного мира трехмерные мороки; громко блистательно брякая, ерзали ярко морозные раковины; серебрянцем заляпало солнце на блещенский снег; и – черней темноты: тени синие.
Медленно шел под деревьями – в черные бездны; сиявшие светами, котиковым колпаком из-за звезд: триллионами звезд, и всклокоченно белое облако черной заплатою срезав, на розовом фоне забора означился.
Вышел туда, —
– где —
– все дернулось: белым сияющим бешенством.
Видел, как Серафима, уйдя в воротник, став двуглазкой, ушастою шапкой махаяся, расхлопоталась – в опаловый пар.
– А ремни-то?
– Кардонка-то!
Тут же ее подхватив, Никанор уронил чемоданчик, трезвоня очками; прохожий, разинувши рот, обернулся; и долго следил: кто такие; а Тителев молча взмигнул на извозчике; пальцем, как шилом, хватил:
– Этот – вам… Этот – нам…
Как стекло, – выпорх окон, крестов колоколенных, шпицев. С задзекавшим смехом под локоть подсаживал Тителев.
– Эк!
– Осторожнее.
– Ломкие скользи!
И полость застегивал:
– Ну-те – пошел!
Бородой подмахнул на хрусталь голубых леденцов, от которых… —
– глаза закрывайте!
Профессор прочвакал усами:
– Какой смышлеватый мужчина!
И вновь показалось: узнал.
Как —
– сияло из далей резкое барокко с зеленого, склонного неба, где воздух – настой из квадратов, сияющих окнами.
Сел, чтоб из санок малютку выдавливать; радовались волосята ее стародавнему солнцу; качалось так мягко в качавшихся саночках, вздернувши носик, нежнея лиловыми скулами.
Просто уютно качаться с ней в саночках!
– Будет, что будет!
Усы пошли взаигры.
____________________
Синие, желтые, красные домики, как не глядят: белоглазы.
Но синими льдами повесился жолоб; алмазные бревна; как зеркало, – камень; зеленый забор колет глаз снегозубой дрызгою.
Подъятая лапа горит мрачно-розовым пламенем.
Солнце, —
– метающий синие выпыхи,
воздух врезающий ободом —
– диск —
– красно-розово выпуклилось, повалясь там за крыши; там даль холодна и плоска.
Там багровая катится вниз голова: в облака заревные.
Как зарчиво-розов косяк; белый дом – уже кремовый; там солносяды открылись.
Река, прорубь: сйнедь – с засыпкой борзеющих блесков, с пожаром заречных земель.
Полулунок несется.
И звездочка —
– первая, —
– нудится —
– лучиком синим: скатиться надо домиком.
– Стой: здесь!
– Приехали?
Вот тарантою к саням продробил Никанор, принимаясь высаживать в снег Серафиму, которая, точно себя перестроив, с осанкой гордою, с тихим достоинством, павою вышла: и скрытно косилась на Тителева, трясоплясом слетевшего: с хитрой улыбкой.
Но тотчас, вобравши движения, встал, преклоняясь широким плечом; и с упором рукою опущенной жест пригласительный сделал:
– Добро вам пожаловать к нам!
А профессор споткнулся над ним, потому что морщины на лбу, точно стая снимавшихся крыльями птиц, удивились, спеша разразиться открытием:
– Где я вас видел?
Утратив усы в бороде и морщины насвои потеряв, – он прошел под воротами, сахарным хрустом, на двор: точно рыбьей, серебряною чешуею уплющился снег.
Баба Агния снегом тюфяк выбивала с крыльца: никого; Никанор с Серафимою переблеснулся:
– Не встретила!
За чемоданом понес чемодан: к флигелечку.
Терентий же Титович, в шапке-рысине, в своей поколенной шубенке шажисто шарил: руки – за спину, а бородою – под небо.
Показывал:
– Вот – полюбуйтесь!
– Какие просторы!
– Владения наши: владения ваши…
И под голубою, прозрачной сосулиной встал; и затейливо, замысловато свои рассыпал не слова, – мелочишки; так тигр в тростнике для охотника след оставляет – нарочный, ведя его к гибели.
Ей показалось: хватает глазами их речи без слов этот хитрый кошец: нахватав, как мышат, – унесет все: разглядывать!
– Вот!
И – увидели: бочка в снегу – брызгомет в ожерелье из яхонтов.
– Вот!
Среброперый занос, точно с ликом зеркальным, загриви-ной, точно алмазным кокошником, клонится.