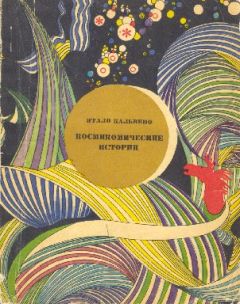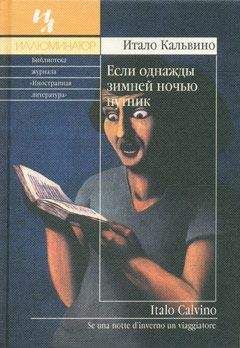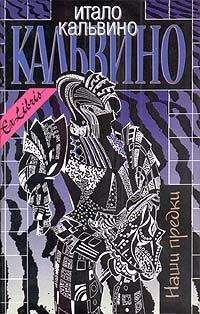сына, как их отцы взирали на него, чужака, пожаловавшего к ним в один прекрасный день на своей лошади и со своим карабином.
На фоне закопченного очага и пламени выступает статная фигура женщины; на плечах у нее полосатая рыже-красная накидка. Анаклета Игерас готовит мне острые биточки.
– Кушай, сынок. Ты потратил целых шестнадцать лет, чтобы найти дорогу домой, – говорит она.
Почему она сказала «сынок»? Потому что так принято? Или это слово означает сейчас то, что оно означает? От острых приправ, которые Анаклета добавила в блюдо, у меня горит во рту. Жгучий привкус будто бы включает в себя все остальные привкусы, доведенные до крайности. Они так перемешаны, что я не в состоянии ни распознать, ни назвать их; кажется, что языки пламени лижут мне нёбо. Мысленно перебираю известные мне привкусы, стараюсь выделить этот всеобъемлющий привкус и прихожу к противоположному, но, вероятно, равноценному ощущению – это материнское молоко; его изначальный вкус содержит в себе все последующие.
Смотрю на лицо Анаклеты – прекрасный индейский лик, чуть уплотненный возрастом; без единой морщинки. Смотрю на ее пышное тело в полосатой накидке и спрашиваю себя, не за этот ли некогда высокий, а теперь отлогий уступ цеплялся я младенческими ручонками.
– Так ты знала моего отца, Анаклета?
– Лучше бы мне его не знать, Начо. Не в добрый час явился он в Окедаль…
– Почему, Анаклета?
– Мы, индейцы, видели от него только зло… Да и бледнолицые тоже… Потом он исчез… Но и уехал он из Окедаля не в добрый час…
Индейцы не сводят с меня глаз. Детских глаз, беспощадно глядящих на вечное настоящее.
Амаранта. Так зовут дочь Анаклеты Игерас. У нее большие раскосые глаза, острый нос с широкими крыльями, тонкие волнистые губы. У меня такие же глаза и губы, такой же нос.
– Правда, мы с Амарантой похожи? – спрашиваю я у Анаклеты.
– Все уроженцы Окедаля на одно лицо. Что индейцы, что белые. Не отличишь. Да и немудрено: наше горное селение стоит особняком. Живет здесь несколько семей. Веками мы вступаем в брак только между собой.
– Но мой отец был со стороны…
– То-то и оно. Если мы не жалуем пришлых, значит, на это есть свои причины.
Индейцы глубоко вздыхают, приоткрыв рты. У них редкие, изъеденные зубы, без десен, совсем как у скелетов.
Проходя по второму дворику, я заметил пожелтевшую фотографию юноши. Фотографию украшали гирлянды цветов и озаряла лампадка.
– По виду этот умерший с фотографии тоже здешний… – говорю я Анаклете.
– Это Фаустино Игерас, царствие ему небесное! – отзывается Анаклета, а индейцы вполголоса произносят молитву.
– Он был твоим мужем, Анаклета?
– Моим братом. Он был опорой и защитой нашего дома и нашего рода, покуда враг не перешел ему дорогу…
– У нас с тобой одинаковые глаза, – обращаюсь я к Амаранте, нагнав ее у мешков во втором дворике.
– Мои больше, – отвечает она.
– Давай проверим, – предлагаю я и подношу к ней лицо так, что дуги наших бровей соприкасаются. Затем, прижавшись бровью к ее брови, разворачиваюсь. Теперь мы касаемся висками, щеками и скулами.
– Вот видишь, уголки глаз кончаются в одной точке.
– Ничего я не вижу, – говорит Амаранта, но не отстраняет лица.
– И носы тоже, – продолжаю я, уткнувшись носом в ее нос, немного наискосок, чтобы совпали профили. – И губы… – выдавливаю я, прильнув к ней губами и накрыв половинкой моего рта половинку ее.
– Больно! – вскрикивает Амаранта. Я наваливаюсь на нее всем телом, прижимаю к мешкам и чувствую, как выпирает ее грудь и вздрагивает животик.
– Каналья! Скотина! За этим ты притащился в Окедаль! Весь в отца! – раздается над моим ухом громогласный голос Анаклеты.
Она хватает меня за волосы и отшвыривает к столбам. Амаранта, получив пощечину, падает спиной на мешки.
– Моей дочери тебе не видать как своих ушей!
– Почему это не видать? Что нам мешает? – возмущаюсь я. Я – мужчина, она – женщина… Если судьбе будет угодно, чтобы мы полюбили друг друга, пусть не сегодня, когда-нибудь, я попрошу ее руки!
– Проклятие! – истошно кричит Анаклета. – Это невозможно! Слышишь, невозможно!
«Значит, Амаранта моя сестра? – проносится у меня в голове. – Почему же Анаклета не признается, что она моя мать?»
– Что ты раскричалась, Анаклета? – говорю я. – Может, мы связаны узами крови?
– Крови? – Анаклета приходит в себя. Края накидки вздымаются, застилая ей глаза. – Твой отец явился издалека… Откуда между нами взяться кровному родству?
– Но я родился в Окедале… От местной женщины…
– Поищи сородичей где-нибудь еще, а не среди бедных индейцев… Неужто отец ничего тебе не говорил?
– Ничего, клянусь тебе, Анаклета. Я не знаю, кто моя мать…
Анаклета поднимает руку и указывает в сторону первого дворика:
– Почему хозяйка не соизволила тебя принять? Почему отправила к слугам? К ней посылал тебя отец, а не к нам. Ты должен пойти к донье Хасмине и сказать ей: «Меня зовут Начо Самора и Альварадо. Мой отец велел мне припасть к твоим ногам».
Здесь в повести должно быть представлено мое душевное смятение, как после бури, всколыхнувшей мои чувства. Ведь я узнал, что половина моего имени, столь тщательно скрываемая от меня, относится к хозяевам Окедаля. Значит, и необозримые угодья принадлежат моему роду. Путешествие вспять во времени вовлекает меня в темный водоворот; один за другим мелькают следующие дворики палаццо Альварадо, одинаково знакомые и неведомые моей пустующей памяти. Схватив Амаранту за косу, я выпаливаю Анаклете первое, что приходит в голову:
– Стало быть, я ваш хозяин! Хозяин твоей дочери! И я заберу ее, когда захочу!
– Нет! – вырывается у Анаклеты. – Только тронь – убью обоих!
Амаранта убегает. Напоследок она корчит гримасу и скалится, не то плача, не то смеясь.
Парадная столовая Альварадо тускло освещена канделябрами, залитыми многолетним воском. Наверное, такое освещение поддерживается нарочно, чтобы скрасить облупленную штукатурку и драные кружевные занавески. Госпожа пригласила меня отужинать. Лицо доньи Хасмины покрыто таким слоем пудры, что кажется, он вот-вот отлетит и шмякнется в тарелку. Под крашеными медными волосами, завитыми щипчиками, проглядывает все та же индианка. Массивные браслеты поблескивают при каждом взлете ложки. Хасинта, ее дочь, хоть и воспитывалась в колледже и одета в белый спортивный свитер, а размахивает руками и стреляет глазками похлеще любой индианки.
– Было время, когда в этой гостиной стояли игровые столы, – рассказывает донья Хасмина. – Играть начинали примерно в этот час и продолжали всю ночь. Иногда за столом проигрывались целые имения. Дон Анастасио Самора обосновался здесь только ради игры. Выигрывал он постоянно, вот и поползли слухи, будто он шулер.
– Однако имение он