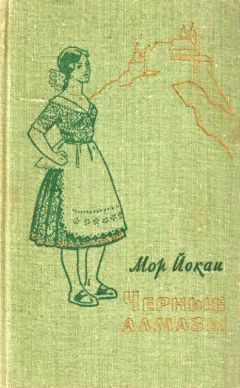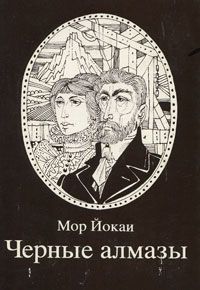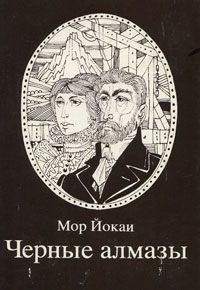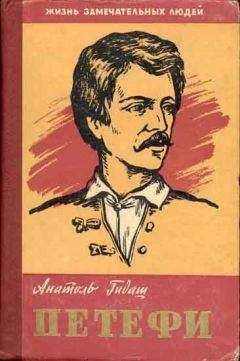Но я-то знаю, какова истинная цель!
Князь не только знаток искусства, но и «ценитель».
Он знает цену двум прекрасным черным алмазам — глазам Эвелины.
К тому же князь Вальдемар безумно влюблен в мадам, а в силу известных причин князь Тибальд заинтересован в том, чтобы Эвелина не попала в руки князю Вальдемару, даже если для этого ему самому придется отбивать ее у Вальдемара.
На днях князь Вальдемар поразил меня, предложив по сто золотых за каждую страницу альбома, где хранятся фотографии мадам Каульман в разных ролях.
Ведь каждый день мы сперва репетируем жанровую сцену en famille[135] y рояля, затем приходит фотограф и запечатлевает артистку в самой эффектной позе. Он должен проделывать всю работу здесь же, не выходя из дома, и изготовлять не больше четырех отпечатков с негатива. Затем один из снимков получает князь Тибальд, один мадам оставляет себе, одним осчастливливает меня и последний идет нашему другу Феликсу.
Негативы у фотографа отбирают.
Я же не стану продавать фотографии князю Вальдемару, а лучше перешлю их тебе в том порядке, как готовились роли. Мама не желает, чтоб эти фотографии хранились у нас в доме».
Теперь Иван вместе с очередным письмом получал также и фотографию Эвелины, каждый раз в новых и новых, все более пленительных позах.
Арпад нимало не подозревал, какое мучительное наслаждение доставляет своему «милому отцу» этим ядом, выдаваемым по капле.
Первый портрет изображал Лорелею, ту фею, что над пучиной Рейна поет волшебную песнь и золотым гребнем расчесывает свои длинные распущенные волосы; воздушные одежды открыли одно плечо, а очи зазывно смотрят на влекомую к гибели жертву.
Второй была Клеопатра перед завоевателем Тарса, готовая покорить его обаянием своей женственности. Портрет исполнен ослепительного блеска — на нем видна честолюбивая царица и сладострастная женщина, нежность и гордость, слитые воедино.
Третий портрет — царицы солнца, жены последнего инки Атауальпы: дерзкий и властный взгляд, одеяние подчеркивает величественность осанки, оставляя открытыми красивые руки; одна рука поднята к небу и протягивает солнцу жертву — трепещущее человеческое сердце, царица холодно взирает на него, и лицо ее словно отражает спокойную бесстрастность неба.
Четвертый портрет — греческая рабыня. Истерзанная красота, попранное целомудрие; она силится разорвать цепи, сковывающие ее руки. Доведенная до совершенства мраморная статуя, созданная оригинальной и смелой мыслью Прадье и вдохновением Торвальдсена.
Пятой была вакханка, словно сошедшая с античного барельефа, изображающего шествие Вакха. Не знающее запретов дерзкое существо: зовущее, одурманенное хмелем лицо и наэлектризованное страстью тело. Прелесть опьянения. Необычная драпировка. Барсова шкура, кубок, увитый лавром и виноградом жезл.
Шестой была султанша Нормагаль. Женщина сидит в застывшей позе, каждый ее член, каждый мускул лица неподвижен; но знаток искусства поймет, что эти темные очи скрывают тайны, доступные только взору посвященного, суля и наслаждение и негу тому, кто их разгадает.
Седьмой портрет — невеста. Белое кружевное платье, белоснежный венец, ниспадающая вуаль. На лице выражение трепетного страха перед неведомым счастьем, в глазах слезы, на губах чуть заметная улыбка. С непередаваемой грацией протягивает она руку за обручальным кольцом.
Следующая фотография показывает молодую женщину, впервые в жизни надевшую чепец. Стыдливый румянец гордости и торжествующая покорность на ее лице. Она чувствует, что этот чепец — все равно что корона, перед которой пал венец невесты.
О, сколь горькую радость доставил Ивану этими фотографиями его милый сынок!
На девятом снимке была изображена баядера. В живописном одеянии индусских танцовщиц она бьет в поднятый над головой звонкий тамбурин, тонкая талия перехвачена златотканым шарфом, на шее мониста из золотых монет, ноги до колен унизаны бусами.
Десятый портрет отображает новую метаморфозу: Клавдия Лета, весталка, влекомая на казнь, ибо она не дрогнула перед настояниями Каракаллы; в глазах ее страх целомудренной девы, она закрывается плащом, как бы защищая себя от оскорбительных взглядов.
Как же умеют играть эти женщины!
И помимо всего еще пояснения к портретам, которые давал Арпад в своих письмах!
И вот результат!
Князь более не в силах разорвать пленительные узы.
После каждой новой репетиции он твердит, что это скрытое сокровище не должно погибнуть для искусства.
Его светлость мог бы отыскать и другие сокровища, если бы не его преклонный возраст и не обширный в прошлом опыт по отысканию подобных сокровищ.
Это очень «дорогие» сокровища.
Когда человеку уже шестьдесят восемь лет и у него внучка на выданье, ему иногда приходит в голову заглянуть в счета своего банкира и уяснить себе разрыв между двадцатимиллионным активом и загадочной суммой пассива, а уж в зависимости от этого решать, можно ли одновременно выдать замуж единственную внучку и ввести в свет очередную красавицу.
Князь только что обставил во вкусе Ангелы дворец на улице Максимилиана на случай, если она выйдет замуж. Этот дворец отделан с истинно княжеской роскошью.
Но графиня рассорилась с князем и слышать не желает о своем нареченном — на что есть известные причины, — а пока Ангела с упрямством аристократки испытывает терпение своего деда, Эвелина все теснее смыкает заколдованный круг, и, если графиня Ангела своевременно не переселится во дворец на улице Максимилиана, то, может статься, его займет мадам Каульман.
Вот что узнал Иван из писем пианиста.
Потому и вторгался Иван в светские салоны, потому и вмешивался в интимные дела аристократических семейств, потому-то и отказался от прежнего образа жизни и попадал в ситуации, которые уготованы человеку, оказавшемуся в чужой среде: он хотел защитить Эвелину. Пусть он не смог ее уберечь, пусть она стала женой другого, но он не хотел видеть ее любовницей третьего!
Он смирился с тем, что девушка, которую он никогда не переставал любить, вышла замуж. Пусть будет счастлива! Но чтобы она, забыв все на свете, кинулась в омут позора, — этой мысли Иван не в силах был вынести. Если стала она женой, пусть и ведет себя, как подобает жене! И если муж сам толкает ее на стезю позора, пусть удержит тот, кто ее искренне любит.
Уж так ли безумен был этот замысел Ивана? Пусть судит о том человек хладнокровный; но у Ивана было горячее сердце, а у сердца свои законы.
И потом, кто знает, может быть, он защищал свои деловые интересы! Ведь если князя уговорят передать консорциуму бондаварское имение, тогда небольшое предприятие Ивана погибло. Может быть, он именно этому хотел воспрепятствовать? Промышленник все должен учитывать.
Итак, людям с пылким сердцем мы скажем, что Иван хотел избавить Эвелину от позора, а хладнокровным — что он, все взвесив, защищал свое дело от опасного конкурента, и тогда duplex libelli dos est.[136]
Иван получал все новые фотографии. Одну за другой посылал их Арпад своему названному отцу. Амелезунда, предводительница амазонок, кающаяся Магдалина, Нинон в ослепительной роскоши рококо, сомнамбула с отрешенным выражением лица; Медея, из мести за попранную любовь не останавливающаяся перед убийством; Саломея, дочь Иродиады, чарующим танцем своим обрекающая святого на смерть; гурия в сказочных восточных одеждах, героиня революции во фригийском колпаке и с факелом в руках. Деспотичная китайская принцесса Турандот, отчаявшаяся Гера, веселящаяся Жанна ля Фолль, безумная Офелия, жестокая Юдифь, сладострастная Зулейка, бравая маркитантка, кокетливая гризетка, коленопреклоненная монахиня, пылкая креолка, неземная дриада, — в них Иван обнаружил больше искусственности, позы, погони за эффектом, нежели искреннего чувства. Это была «школа мадам Гриссак», куда Феликс отдал Эвилу на обучение. Все же две фотографии, которые пришли позднее, болью отозвались в сердце Ивана. На одной мать качала колыбель ребенка, на другой изображена была работающая на шахте девушка-крестьянка с распущенными косами, в красной юбке, с подоткнутым подолом.
Это было неприятно Ивану. Зачем понадобилось опошлять эти образы? Можно ли превращать в комедию материнскую любовь? Или этот последний образ, неужели нельзя было не выставлять его напоказ? Неужели девушку в красной юбке нельзя было оставить тому, кто ее так любил?
В один прекрасный день пианист написал Ивану:
«Этот мой дражайший патрон Каульман — такой негодяй, что пробу ставить некуда. До сих пор он честь честью присутствовал на всех репетициях вместе с князем Тибальдом. Сегодня князь был в столь прекрасном расположении духа, что это не укрылось даже от Каульмана, и после первых же расспросов князь признался, что он чрезвычайно рад письму от графини Ангелы. Внучка пишет ему очень ласково, она рассказывает, что откуда-то, словно из-под земли, объявился некий господин по имени Иван Беренд; у него хватило смелости прочесть ей нотацию и в глаза заявить, что у венгерской знати есть свои обязательства перед родиной и что князь Тибальд должен переселиться в Пешт, где надлежит теперь жить венгерским аристократам. Тогда и графиня Ангела помирилась бы с дедом. Князь был счастлив, рассказывая об этом. Зато Каульман скорчил весьма кислую мину. Князь сказал, что он подумает. Если графиня Ангела так полюбила Пешт, пожалуй, и он не прочь туда поехать. Каульман так и заскрипел зубами. Конечно, и он тоже очень рад (!), что графиня Ангела первой сломала лед. Видимо, она действительно готова мириться. Но на месте князя он сперва попробовал бы уговорить графиню вернуться домой, в Вену, вместо того чтобы зазывать князя в Пешт. Князь согласился, что это правильно и что он пока не поедет в Пешт, а попробует переманить сюда графиню.