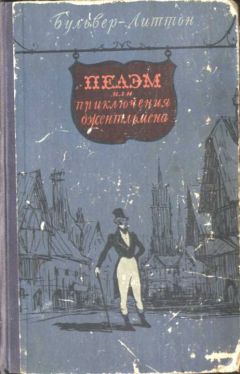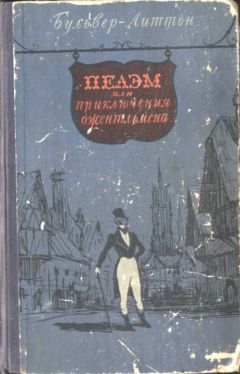— О боже! — вскричал я, вскакивая. — Возможно ли? Неужели Тиррел здесь?
— Что с вами? — изумленно воскликнула леди Хэрьет. Я быстро овладел собой и сел на прежнее место.
— Простите меня, леди Хэрьет, — сказал я. — Но мне думается, — нет, я уверен, — что вижу человека, с которым однажды встретился при очень странных обстоятельствах. Посмотрите вот на того высокого смуглого мужчину в глубоком трауре — он только что вошел в зал и разговаривает с сэром Ралфом Румфордом.
— Вижу, — ответила леди Хэрьет. — Зто сэр Джон Тиррел, он только вчера приехал в Челтенхем. Его история совершенно необычайна.
— Чем же? — с живостью спросил я.
— Вот чем: он — единственный отпрыск младшей ветви рода Тиррелов — очень древнего рода, как показывает само имя. Несколько лет подряд он постоянно вращался среди известных roués[501] и был знаменит своими affaires de coeur.[502] Но этот широкий образ жизни был ему совершенно не по средствам; он стал игроком, потерял остаток своего состояния и уехал за границу. В Париже его зачастую видали в игорных домах самого низкого пошиба; он кое-как перебивался всякими сомнительными способами, пока, месяца три назад, не скончались два его родственника, стоявшие между ним и титулом с родовыми поместьями в придачу, и — он совершенно неожиданно унаследовал и то и другое. По слухам, его с трудом нашли в Париже, в каком-то подвале— нищего, опустившегося. Как бы там ни было, сейчас он — сэр Джон Тиррел, имеет большое состояние и, несмотря на некоторую грубость манер, по всей вероятности связанную с тем, что он долго был в такой дурной компании, его очень любят немногие светские люди, составляющие избранное общество Челтенхема; они даже восхищаются им.
В эту минуту Тиррел поравнялся с нами. Наши взгляды скрестились, он тотчас остановился и густо покраснел. Я поклонился; одну минуту, он, казалось, недоумевал, как ему быть, но только минуту. Он ответил на мое приветствие, по видимости, весьма сердечно, горячо пожал мне руку, сказал, что счастлив меня видеть, спросил, где я остановился, и объявил, что непременно побывает у меня, после чего ускользнул и вскоре затерялся в толпе.
— Где вы с ним встречались? — спросила леди Хэрьет.
— В Париже!
— Вот как! Разве он там бывал в приличном обществе?
— Не знаю, — ответил я. — Доброй ночи, леди Хэрьет. — Затем я, с видом крайнего утомления, взял свою шляпу и расстался с шутовской помесью фешенебельной черни и вульгарной знати.
Много женщин раньше
Мне нравилось: их голоса нередко
Пленяли слух мой……
…………………..Но вы —
Вы несравненны, бесподобны вы
И сотканы из лучших совершенств.[503]
Шекспир
Тебе, любезный мой читатель, кому я в этом повествовании поверяю все свои тайны; тебе, кого я уже полюбил и считаю своим близким другом, тогда как ты пока что имеешь основания не слишком меня уважать, — тебе легко вообразить мое изумление при столь неожиданной встрече с бывшим героем событий в игорном доме. Я был ошеломлен странными переменами, наступившими в его жизни с тех пор, как я видел его в последний раз. Мои мысли тотчас вернулись к той сцене и к таинственной нити, соединявшей Тиррела и Гленвила. Как примет Гленвил весть о благоденствии его врага? Удовлетворится ли он тем возмездием, и если нет, то какими способами сможет он теперь достичь своей заветной цели?
Эти мысли и множество других, сходных с ними, занимали и тревожили меня всю ночь напролет. Под утро я, наконец, позвал Бедо и велел ему читать мне вслух, покуда я не засну. Он раскрыл пьесу месье Делавиня,[504] и в начале второй сцены я уже перенесся в страну сновидений.
Я проснулся около двух часов пополудни, оделся, неспешно выпил свой шоколад и только начал прикидывать, как бы поэффектнее надеть шляпу, как мне принесли записку следующего содержания:
Дорогой Пелэм, me tibi commendo.[505] Сегодня утром я услыхал в вашей гостинице, что вы там проживаете. При этом известии мое сердце превратилось в храм радости. Я зашел к вам часа два назад, но, подобно Антонию у Шекспира,[506] вы «заполночь пируете с друзьями». О, если б я мог, вместе с Шекспиром, прибавить, что вы «однако ж рано утром — на ногах». Я только что из Парижа, этого umbilicus terrae,[507] и единственно ради вашего личного удовольствия, «по нежной к вам любви хочу поведать вам» мои похождения, начиная с того дня, как мы расстались, но вы должны осчастливить меня свиданием. До той поры «да хранят вас всемогущие боги».
Винсент.
Гостиница, название которой Винсент указывал в записке, находилась на той же улице, что и мой караван-сарай, и я тотчас направился туда. Я застал моего друга склоненным над увесистым фолиантом. Он принялся горячо, но тщетно убеждать меня, что намерен прочесть его. Оба мы были от души рады встрече.
— Но как же, — сказал Винсент после первых сердечных приветствий, — как же мне достойным образом поздравить вас с вашим новым, столь почетным титулом? Вот уж не ожидал, что вы из rouй превратитесь в сенатора!
Ты быстро голоса собрал!
Смотри, чтоб курс ты не менял,
А то получится скандал,
И смех и грех…
Пусть речь твоя несется в зал,
Волнуя всех!
Так говорит Берне;[508] в правильном истолковании этот совет означает, что вам надлежит изумить крыс церкви святого Стефана.[509]
— Увы! — сказал я. — Во все западни этого учреждения нужно положить приманки.
— Верно! Но крыса соблазняется любым сыром, от глостера до пармезана, и вам нетрудно будет раздобыть какой-нибудь огрызок. Раз уж мы заговорили о Палате, вы видели в здешней газетке сообщение, что сенатор-купец олдермэн[510] У. находится в Челтенхеме?
— Я этого не знал. По всей вероятности, он пополняет запас речей и черепах для предстоящей сессии.
— Удивительно, — заметил Винсент, — как ваше высокое звание развязывает язык! Стоит только человеку стать мэром,[511] и он уже воображает себя по меньшей мере Туллием.[512] Представьте, Венэбл однажды спросил меня, как по-латыни «публичная речь», и я сказал ему: hippomanes [513] —или неистовство мэров.[514]
После того как я, приведя в движение мускулы, ведающие смехом, отдал должное остроумию лорда Винсента, он захлопнул фолиант, велел подать свою шляпу, и мы отправились погулять. Проходя мимо книжной лавки, мы увидели, что на скамейках перед ней удобно расположились денди, накануне блиставшие на балу.
— Прошу вас, Винсент, — сказал я, — обратите внимание на этих достойных молодых людей, в частности на тощего юношу в синем фраке и жилете цвета буйволовой кожи. Это мистер Ритсон, de Rous, иными словами — самый подлинный джентльмен во всем Челтенхеме.
— Вижу, — ответил Винсент. — Мне думается, он весьма удачная помесь врожденной грубости и благоприобретенного изящества. Он напоминает мне изображение огромного вола, вставленное в золоченую раму.
— Или состряпанное в Блумсбери-сквере[515] заливное, красоты ради обложенное кусочками моркови.
— Или бумазейную нижнюю юбку под роскошным шелковым платьем, — добавил Винсент. — Ну что ж, в конце концов эти подражатели не хуже своих образцов. Когда вы возвращаетесь в Лондон?
— Не раньше чем этого потребуют мои сенаторские обязанности.
— А до того времени вы останетесь здесь?
— Это уж как угодно будет богам. Но, силы небесные! Что за красавица, Винсент!
Винсент обернулся и, пробормотав: «O,Dea certe»,[516] умолк.
Предмет нашего восторженного изумления стоял на углу улицы подле лавки, видимо дожидаясь кого-то, кто находился внутри. Когда я ее заметил, ее лицо было обращено ко мне. Никогда еще я не видел женщины, которая хоть отдаленно могла бы сравниться с ней по красоте. Ей было лет двадцать: волосы у нее были дивного каштанового цвета с золотистым отливом — словно солнечный луч запутался в этих пышных кудрях и искрился там, тщетно пытаясь ускользнуть. Блеск больших глубоких карих глаз затемняли и смягчали (как теперь принято выражаться) длинные темные ресницы. Уже цвет ее лица вызывал восхищение— кровь, пульсировавшая под нежной, прозрачной кожей, придавала ей розоватый оттенок. Нос был той прекрасной строгой формы, которую мы редко видим в жизни, но хорошо знаем по греческим статуям — сочетание четкого, смелого контура с утонченнейшей женственной прелестью, а линия, идущая от носа к устам, была так мила и воздушна, что, казалось, не кто иной, как бог Амур перебросил мост к самому чудесному и благоуханному из его островов.