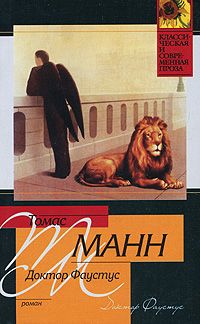— Боже мой, Рудольф, вы, наверно, чувствуете себя спасителем, у вас такая, сияющая физиономия! Уверяю вас, мы вдоволь натанцевались, и вы нам не нужны.
— Не нужен? — отвечал он с весёлым негодованием своим глуховатым голосом. — Ну, а веление моего сердца, что же, вообще ничего не стоит?
— Ни гроша, — говорила она. — К тому же я слишком высока для вас.
И шла с ним танцевать, гордо задрав крошечный подбородок, без углубления под пухлой губой. Иной раз приглашение получала Инеса; она протягивала ему руку, настороженно улыбаясь и глядя из-под полуопущенных век. Впрочем, он вёл себя приятно не только с сёстрами. Он не давал воли своей забывчивости. Иной раз, особенно когда те отказывались танцевать, он вдруг становился задумчив и присаживался к Адриану и Баптисту Шпенглеру, который неизменно являлся в длинном маскарадном плаще с капюшоном и налегал на красное вино. Учащённо мигая, с ямочкой на щеке, пышноусый Шпенглер цитировал гонкуровский дневник или письма аббата Галиани, и Швердтфегер, приняв тот негодующе внимательный вид, о котором уже упомянуто выше, сверлил глазами лицо говорящего. Он беседовал с Адрианом о программе ближайшего цапфенштесерского концерта, требовал, словно на свете не существовало никаких других интересов, чтобы тот дополнил и пояснил свои замечания о музыке, о состоянии оперы и тому подобном, сделанные недавно у Родде, и вообще целиком посвящал себя Адриану. Он брал его под руку и бродил с ним вдоль стен зала, мимо праздничной сутолоки, адресуясь к нему, по карнавальному праву, на «ты» и ничуть не смущаясь нежеланием собеседника перенять это фамильярное обращение. Жанетта Шейрль позднее сообщила мне, что однажды, когда Адриан вернулся после такого моциона к столу, Инеса Родде сказала о Руди:
— Нечего ему потакать. Он хочет за всем угнаться.
— А может быть, и господин Леверкюн тоже хочет за всем угнаться, — заметила Кларисса, подперев рукой подбородок.
Адриан пожал плечами.
— Знаете, чего он хочет? — ответил он. — Чтобы я написал для него скрипичный концерт, с которым можно было бы выступать в провинции.
— Не делайте этого! — сказала Кларисса. — Приноравливаясь к нему, вы ничего, кроме милых пустячков, не сочините.
— Вы слишком высокого мнения о моей гибкости, — отпарировал он, поддержанный блеющим смехом Баптиста Шпенглера.
Но довольно об участии Адриана в мюнхенских увеселениях! В обществе Шильдкнапа и обычно по его настоянию он уже зимой ездил в известные своими красотами, хотя и несколько опошленные иностранным туризмом пригороды и провёл с ним немало дней в ослепительных снегах Этталя, Обераммергау, Миттенвальда. С наступлением весны эти экскурсии даже участились, их целью стали прославленные озёра и театрально-пышные замки любимого народом безумца; нередко случалось им выезжать на велосипеде (Адриан ценил это средство независимого передвижения) куда глаза глядят, в зеленеющие дали, и ночевать где придётся — среди достопримечательностей или в глухом захолустье. Я упоминаю об этом потому, что именно тогда Адриан познакомился с местом, которое ему позднее суждено было избрать для постоянного жительства — с Пфейферингом, усадьбой Швейгештилей близ Вальдсхута.
Городок Вальдсхут, между прочим не лишённый прелести и небезынтересный, находится в часе езды от Мюнхена по Гармиш-Партенкирхенской дороге, Пфейферинг, или Пфеферинг, — следующая станция, всего в десяти минутах от Вальдсхута, но скорые поезда здесь не останавливаются. Они проносятся мимо луковицеобразного купола пфейферингской церкви, господствующего над скромным пейзажем. Адриан и Рюдигер попали сюда совершенно случайно и в первый раз — ненадолго. Они даже не заночевали у Швейгештилей, собираясь ещё засветло сесть в Вальдсхуте на мюнхенский поезд, ибо обоим нужно было на следующее утро работать. Пообедав в харчевне на главной площади городка и убедившись, что железнодорожное расписание оставляет им ещё несколько свободных часов, они поехали на велосипедах по обсаженному деревьями просёлку дальше на Пфейферинг, погуляли по деревне, узнали у какого-то ребёнка название соседнего пруда (он звался Святым колодцем), поглядели на увенчанный деревьями пригорок Римского холма, и под лай цепного пса, которого босоногая служанка называла Кашперль, попросили лимонаду у ворот мызы, украшенных монастырским гербом, — не столько из жажды, сколько потому, что при первом же взгляде на здание их поразила величественная тяжеловесность сельского барокко.
Не знаю, что «усмотрел» тогда Адриан, увидел ли он сразу или лишь постепенно, задним числом и на расстоянии повторение некоторых обстоятельств в другой, но не столь уж отличной тональности. Я склонен предполагать, что поначалу он не осознал этого сходства и что оно поразило его позднее, может быть; во сне. Во всяком случае, он ни словом не обмолвился Шильдкнапу, да и в разговорах со мной никогда не заводил речь о странном совпадении. Но, разумеется, я могу ошибиться. Пруд и холм, огромное старое дерево во дворе — кстати сказать, вяз, — окружённое зелёной скамьёй, и другие дополнительные мелочи, возможно, поразили его с первого взгляда; скорей всего не требовалось никаких снов, чтобы раскрыть ему глаза, и, уж конечно, его молчание ровно ничего не доказывало.
Статная женщина, появившаяся в воротах при виде посетителей, любезно их выслушавшая и напоившая лимонадом, была не кто иная, как госпожа Эльза Швейгештиль. Помешав длинными ложечками в высоких стаканах, она подала им напиток в сводчатой, похожей на зал комнате, налево от сеней, своего рода сельской гостиной, с грузным столом, глубокими оконными амбразурами, свидетельствовавшими о немалой толщине стен, и с крылатой Никой Самофракийской в верхней части пёстро расписанного шкафа. Ещё здесь стоял коричневый рояль. Подсев к своим гостям, госпожа Швейгештиль объяснила им, что залом семья не пользуется, а проводит вечера в меньшей комнате, напротив, чуть наискось, сразу у входа. В доме много лишнего места; дальше, на этой же половине, есть ещё одно весьма презентабельное помещение, «игуменский покой», именуемое так потому, что служило кабинетом настоятелю монахов-августинцев, некогда здесь хозяйничавших. Тем самым она подтвердила, что прежде усадьба была монастырским имением. Швейгештили жили здесь уже в третьем колене.
Адриан упомянул, что сам он родом из деревни, хотя давно уже живёт в городе, осведомился, велик ли земельный надел хозяев, и узнал, что таковой составляет около сорока моргенов пашни и лугов, не считая леса. В собственность мызы входят также невысокие постройки за каштанами, на пустыре, напротив усадьбы. Когда-то в них жили монахи, а теперь они почти всегда пустуют, да едва ли и приспособлены для жилья. Позапрошлым летом там стоял на квартире один мюнхенский художник, вздумавший писать пейзажи в здешних местах, на Вальдсхутском болоте и так далее, и действительно написавший немало красивых, впрочем, пожалуй, довольно грустных, печальных видов. Три картины выставлялись в Гласпаласте, где она сама их видела, а одну приобрёл директор Штигльмайер из Баварского учётного банка. Господа, наверно, тоже художники?
Наверно, она заговорила о давнем постояльце только для того, чтобы высказать догадку и выяснить, с кем имеет дело. Узнав, что перед ней писатель и музыкант, она почтительно подняла брови и заметила, что подобные знакомства редки и интересны. Художников же — хоть пруд пруди. Посетители сразу показались ей людьми серьёзными, тогда как художники по большей части публика распущенная, беззаботная, не очень-то разумеющая серьёзность жизни, — она имеет в виду не практическую серьёзность, денежную обеспеченность и всякое такое, а скорее трудность жизни, её тёмные стороны. Впрочем, она не хочет быть несправедлива ко всему сословию художников, ибо, например, тогдашний её жилец, не в пример этой весёлой братии, оказался тихим, замкнутым человеком, нрава, пожалуй, даже угрюмого, что видно было и по его картинам — пейзажам с болотами и туманами над глухими лесными полянами; да, можно только удивляться, что одну из них, притом самую мрачную, облюбовал для покупки директор Штигльмайер: видно, он, хоть и делец, сам не лишён меланхолической жилки.
Стройная, с каштановыми, чуть-чуть поседевшими волосами, гладко и туго зачёсанными, так что в проборе просвечивала белая кожа, в клетчатом фартуке, с овальной брошкой у круглого выреза шеи, она сидела рядом с ними, сложив на подносе маленькие красивые крепкие руки; на правой было плоское обручальное кольцо.
Художники ей нравятся, сказала она довольно чистым, хотя и не вполне свободным от диалектных примесей языком, ибо это люди отзывчивые, а отзывчивость — самое прекрасное и самое важное в жизни: весёлость художников, собственно, на ней и основана, ведь существует весёлая и серьёзная отзывчивость, и ещё неизвестно, которая из них предпочтительней. Может быть, лучше всего третья — спокойная. Конечно, художники должны жить в городе, потому что там создаётся культура, с которой им надлежит иметь дело; по сути же их место скорее среди поселян, живущих в большей близости к природе и, стало быть, более отзывчивых, а не среди горожан, чья отзывчивость либо ослабла, либо часто подавляется в угоду общественному порядку, что опять-таки ущербляет их отзывчивость. Она не хочет, однако, быть несправедливой и к горожанам; всегда находятся исключения, о которых сразу и не догадаешься; и тот же директор Штигльмайер, купив унылый пейзаж, обнаружил большую и не только артистическую отзывчивость.