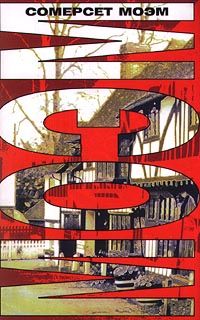— Как бы вы думали, кто к нам сегодня приезжает? — спросила она меня. Дядя Джордж Медоуз. Знаете, тот, который был в Китае.
— Неужели? Я думал, что он умер.
— Мы все так думали.
Историю дядюшки Джорджа я слышал десятки раз, и она всегда забавляла меня, так как от нее веяло ароматом старинной легенды; теперь меня взволновала возможность увидеть ее героя. Ведь дядюшка Джордж Медоуз и Том, его младший брат, оба ухаживали за миссис Медоуз, когда она еще была Эмили Грин, пятьдесят с лишним лет назад, и когда Эмили вышла замуж за Тома, Джордж сел на корабль и уехал.
Было известно, что он поселился где-то на побережье Китая. В течение двадцати лет он изредка присылал им подарки; затем больше не подавал о себе вестей; когда Том Медоуз умер, его вдова написала об этом Джорджу, но ответа не получила; и наконец все решили, что его тоже нет в живых. Но несколько дней назад, к большому своему удивлению, они получили письмо из Портсмута от экономки приюта для моряков. Она сообщала, что последние десять лет Джордж Медоуз, искалеченный ревматизмом, провел там, а теперь, чувствуя, что жить ему осталось недолго, пожелал снова увидеть дом, в котором родился. Альберт, его внучатый племянник, отправился за ним в Портсмут на своем форде, к вечеру они должны были приехать.
— Только представьте себе, — говорила миссис Джордж, — он не был здесь больше пятидесяти лет. Он даже никогда не видел моего Джорджа, а ему уже пошел пятьдесят первый год.
— А что думает об этом миссис Медоуз? — спросил я.
— Ну, ведь вы ее знаете. Она сидит и улыбается про себя. Сказала только: «Он был красивым парнем, когда уезжал, но не таким положительным, как его брат». Вот поэтому она и выбрала отца моего Джорджа. Она еще говорит: «Теперь-то, вероятно, он угомонился».
Миссис Джордж пригласила меня зайти познакомиться с ним. С наивностью деревенской жительницы, которая если и уезжала из дома, то не дальше, чем в Лондон, она считала, что, раз мы оба побывали в Китае, у нас должны быть общие интересы. Конечно, я принял приглашение. Когда я пришел, вся семья была в сборе; все сидели в большой старой кухне с каменным полом, миссис Медоуз — на стуле у огня, держась очень прямо и в своем парадном шелковом платье, что меня позабавило, сын с женой и детьми — за столом. По другую сторону камина сидел сгорбленный старик. Он был очень худ, и кожа висела на его костях, как старый, слишком широкий пиджак. Лицо у него было морщинистое и желтое; во рту не осталось почти ни одного зуба.
Мы поздоровались с ним за руку.
— Очень рад, что вы благополучно добрались сюда, мистер Медоуз, — сказал я.
— Капитан, — поправил он меня.
— Он прошел всю аллею, — сказал мне Альберт, его внучатый племянник. Когда мы подъехали к воротам, он заставил меня остановить машину и заявил, что хочет идти пешком.
— А ведь я целых два года был прикован к кровати. Меня снесли на руках и посадили в машину. Я думал, что никогда уже не смогу ходить, но когда я их увидел, эти самые вязы, — помню, отец их очень любил, — то почувствовал, что опять могу двигать ногами. Я прошел по этой аллее пятьдесят два года тому назад, когда уезжал, а вот теперь снова сам вернулся по ней обратно.
— Ну и глупо! — заметила миссис Медоуз.
— Мне это пошло на пользу. Так хорошо и бодро я не чувствовал себя уже лет десять. Я еще тебя переживу, Эмили.
— Не слишком рассчитывай на это, — ответила она.
Вероятно, уже целую вечность никто не называл миссис Медоуз по имени. Меня это даже немного покоробило, будто старик позволил себе какую-то вольность по отношению к ней. Она смотрела на него, и в глазах у нее мелькнула чуть насмешливая улыбка, а он, разговаривая с ней, ухмылялся, обнажая беззубые десны. Странное чувство я испытывал, глядя на этих двух стариков, не видевшихся полвека, и думая о том, что столько лет назад он любил ее, а она любила другого. Мне захотелось узнать, помнят ли они, что чувствовали тогда и о чем говорили друг с другом. Мне захотелось узнать, не удивляет ли теперь его самого, что из-за этой старой женщины он покинул дом своих предков, законное свое наследие, и всю жизнь скитался по чужим краям.
— Вы когда-нибудь были женаты, капитан Медоуз? — спросил я.
— Нет, это не для меня, — ответил он надтреснутым голосом и ухмыльнулся, — я слишком хорошо знаю женщин.
— Ты только так говоришь, — возразила миссис Медоуз, — на самом деле в молодости у тебя наверняка было с полдюжины черных жен.
— Тебе не мешало бы знать, Эмили, что в Китае женщины не черные, а желтые.
— Может быть, поэтому ты и сам так пожелтел. Когда я тебя увидела, то сразу подумала: да ведь у него желтуха.
— Я сказал, Эмили, что, кроме тебя, ни на ком не женюсь, и не женился.
Он произнес это без всякого пафоса или чувства обиды, так же просто, как говорят: «Я сказал, что пройду двадцать миль, — и прошел». В его словах звучало даже некоторое удовлетворение.
— Может, тебе пришлось бы раскаиваться, если бы ты женился, — сказала она.
Я немного поговорил со стариком о Китае.
— Я знаю все порты Китая лучше, чем вы — содержимое ваших карманов. Я побывал повсюду, куда только заходят корабли. Вы могли бы здесь просиживать целые дни в течение полугода, и то я не успел бы рассказать вам половины всего, что повидал в свое время.
— Мне кажется, одного ты все же не сделал, — сказала миссис Медоуз, и в глазах ее по-прежнему светилась насмешливая, но добрая улыбка, — ты не разбогател.
— Не такой я человек, чтобы копить деньги. Зарабатывай их и трать — вот мой девиз. Одно могу сказать: если бы мне пришлось начинать жизнь заново, я бы в ней ничего не изменил. А ведь немногие это скажут.
— Конечно, — заметил я.
Я смотрел на него с восторгом и восхищением. Это был беззубый старик, скрюченный ревматизмом, без гроша в кармане, но он хорошо прожил жизнь, так как умел ею наслаждаться. Когда мы с ним прощались, он попросил меня прийти и на следующий день. Если я интересуюсь Китаем, он будет рассказывать о нем сколько угодно.
На следующее утро я решил зайти справиться, хочет ли старик меня видеть. Я медленно прошел великолепную вязовую аллею и, подойдя к саду, увидел, что миссис Медоуз рвет цветы. Услышав, что я здороваюсь с ней, она распрямилась. В руках она уже держала целую охапку белых цветов. Я взглянул в сторону дома и увидел, что на окнах опущены шторы; меня это удивило: миссис Медоуз любила солнечный свет. «Хватит времени належаться в темноте, когда вас похоронят», — часто говорила она.
— Как себя чувствует капитан Медоуз? — осведомился я.
— Он всегда был легкомысленным парнем, — ответила она. — Когда Лиззи понесла ему сегодня чашку чая, она нашла его мертвым.
— Мертвым?
— Да. Он умер во сне. Вот я и нарвала цветов, чтобы поставить в его комнату. Я рада, что он умер в этом старом доме. Все эти Медоузы считают, что умирать надо именно здесь.
Накануне очень трудно было убедить его лечь спать. Он все рассказывал о событиях своей долгой жизни. Он так радовался, что вернулся в свой старый дом. Гордился, что без всякой помощи прошел аллею, и хвастался, что проживет еще двадцать лет. Но судьба оказалась милостивой к нему: смерть вовремя поставила точку.
Миссис Медоуз понюхала белые цветы, которые держала в руках.
— Я рада, что он вернулся, — сказала она. — После того как я вышла за Тома Медоуза, а Джордж уехал, я никогда не была вполне уверена, что сделала правильный выбор.
Стрекоза и муравей
(пер. И. Гурова)
Когда я был маленьким, меня заставляли учить наизусть басни Лафонтена, и мораль каждой мне тщательно растолковывали. Была среди них «Стрекоза и муравей», из которой юные умы почерпывают полезнейший вывод: в нашем несовершенном мире трудолюбие вознаграждается, а легкомыслие карается. В этой превосходнейшей басне (прошу прощения за пересказ того, что известно всем, как несколько опрометчиво требует признать вежливость) муравей усердно трудится все лето, собирая запасы на зиму, а стрекоза сидит себе на листочке под солнышком и распевает песенки. Наступает зима, муравей обеспечен всем необходимым, но у стрекозы кладовая пуста. Она отправляется к муравью и просит дать ей еды. И получает от муравья ответ, ставший классическим:
«— Да работала ль ты в лето?
— Я без души лето целое все пела.
— Ты все пела? Это дело: так поди же попляши!».
Думаю, дело было не в извращенности моего ума, а просто в детской непоследовательности — ведь нравственное чувство детству чуждо, — но я никак не мог принять такую мораль. Все мои симпатии были на стороне стрекозы, и еще долго, увидев муравья, я старался наступить на него. Таким категоричным образом (и как мне стало ясно много позже — чисто по-человечески) я пытался выразить неодобрение предусмотрительности и здравому смыслу.