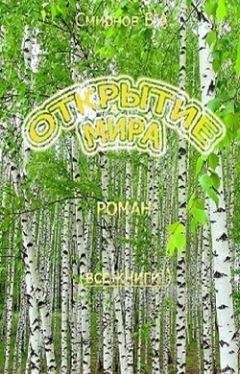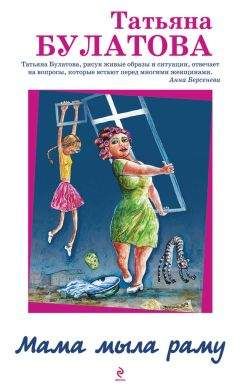Покраснев от волнения и счастья, он положил в отцову ладонь золотое волшебное колечко с драгоценным камешком.
Отец посмотрел, повертел кольцо, в горле у него что‑то забулькало, захрипело, он привлек Шурку к себе, неловко обнял и долго кашлял и смеялся.
— Уважил… Ах ты, честная мать, потешил батьку!.. Добытчик! Ну, спасибо, сынище!
Оседлав отцово колено, качаясь, Шурка захлебывался словами:
— Выстроим… ого, какой большущий!.. почище Быкова дом. Да?.. Крыша — железная, а на светелке — петух. Эге?
Прижимая Шурку к груди, отец вытер смеющиеся мокрые глаза.
— Дай срок, — тихо сказал он, дыша табаком. — Хоть и без железа, сгоношим новую избу. Отмучаюсь я на своей каторге в Питере, наживу малость деньжат — перееду в деревню навсегда… Заживем. Не хуже людей! — с угрозой кому‑то добавил он. Потом возвратил Шурке колечко. — Где ты его взял?
— На шоссейке в тифинскую нашел.
— Спрячь. Жениться будешь — невесте подаришь, — усмехнулся отец.
— А — а… тряхнуть колечком нельзя? — спросил Шурка.
— Четвертак — пара! — кратко сказал отец, осторожно спуская Шурку с колен. — Беги гуляй, пока Ванятка спит. А я у коровы в загородке почищу. Навозу там — горы.
Должно быть, Шурка попривык к щелчкам, которыми жизнь в последнее время награждала его. Перенес он и неудачу с колечком. Что поделаешь, в дураках остался — подставляй лоб. Спервоначалу очень больно, реветь хочется, а обтерпишься — ничего. Ладно, думается, в другой раз маху не дам. Нос рукавом вытрешь, поморгаешь… Эге, глаза‑то острее становятся, лучше видят, больше всего примечают, меньше ошибаются.
Вот вернулся Косоуров из больницы живехонек, словно и не давился в амбаре. Ему обкорнали в городе бороду — не узнать кабатчика. Дня два он словно бы пугался людей, сторонился, когда мужики, суша сено на гумне, звали его покурить, посидеть вместе. А потом все‑таки подсел боком, ни на кого не глядя, покурил, осторожно покашливая в кулак, помолчал. Никто ему про амбар не напоминал, не смеялся, никто и не жалел, будто ничего и не было. И Косоуров, как прежде, седой, кривоногий, еще более грустный, стал тихонько, стеснительно вставлять в разговор словечко — другое, глядя себе под ноги.
Уехал в Питер Афанасий Горев, так же незаметно, как приехал. В избу его, по уговору, перебрался Матвей Сибиряк, отодрал горбыли с окон, покидал крапиву и лопухи в пруд. Долго ходил с топором возле дома, ковырял трухлявый угол, примеривался, торговал на станции бревна, чтобы подрубить избу. В долг бревен ему не дали, и Матвей забил дыру свежей тесиной, как заплату посадил.
— Хозяева… хрен редьки не слаще! — плюнул Шуркин отец, увидев эту тесовую заплату.
Мужики вспоминали Горева часто. Они хвалили его и за глаза подсмеивались над ним. Они и над собой подшучивали, припоминая ночной разговор в праздник, драку на лугу и как делили сено и чуть снова не поцарапались с глебовскими. Говорили, что управляло струсил, побоялся в тюрьму Сморчка засадить. Уж больно дело‑то неловкое, смех на весь уезд. А вот Родиона грозился прогнать из усадьбы. Отблагодарил! У них, у господ, завсегда так… А платить за сено таки придется по лишнему целковому. Да пес с ним, по второму бы рублевику, кажется, отвалили, не пожалели, только бы сызнова поглядеть, как Платона свет Кузьмича кнутом кормят. Хо — хо — хо! Генералишку бы еще по толстому заду ожечь, то‑то завертелся бы, захромал. Ха — ха — ха!
Обрывая смех, мужики начинали играть словами, как ребята мячиками. Кидались намеками, понятными им одним, хитровато — весело подмигивая. Потом задумывались, качали бородами, в чем‑то сомневаясь, начинали спорить, сердиться, переругиваться.
Шурка сделал для себя новое диковинное открытие: два человека, которые постоянно жили в каждом мужике, весьма смахивали на его родителей. В любом мужике словно сидела Шуркина мамка, надеявшаяся на хорошее, доброе, и Шуркин раздражительный отец, не веривший ни во что, кроме плохого. И странное дело, в этом случае мамке почему‑то не удавалось успокоить отца, и они, выглядывая из каждого мужика, делали то, чего в действительности никогда не делали дома: спорили и ругались между собой.
Так было с мужиками, пока не появился в селе с двумя стражниками один из тех неведомых людей, что на тройках проносились вихрем по шоссейке, ослепляя ребят пуговицами и бляхами, восхищая всамделишными револьверами и саблями. А у этого бритого, очкастого толстяка еще были на каблуках подковки с блестящими колесиками; он катился на колесиках, как бархатный стул в трактире Миши Императора, засыпая звоном улицу, чем и привел в восторженный трепет Шурку.
Загадочный человек остановился у Быкова в горнице, вызывал к себе мужиков и, как потом краем уха поймал Шурка из разговоров отца с матерью, все допытывался, куда подевался Горев, что он народу говорил. Мужики будто бы клялись и божились, что никакого Горева знать не знают, не видывали; может, и приезжал — прорва питерщиков на праздник понаехало, и болтать они мастера, хвастун на хвастуне, только народу неинтересно, да и некогда болтовней заниматься: сенокос. Устин Павлыч, рассказывал отец, ахал да за голову хватался, слушая такое вранье. «Креста на вас нет, мужички! шептал он в сенях. — Наблудили — и хвост поджали… Нет чтобы их благородию по — доброму, по — хорошему рассказать, покаяться». Никита Аладьин увел Быкова на крыльцо, о чем беседовал — неизвестно, только вдруг отшибло память у лавочника, стал он жаловаться, что в тихвинскую переложил изрядно браги за ворот, ничего толком не помнит. А в горнице кричал и топал приезжий на мужиков, но они уперлись на своем. Отец говорил, что хоть он и не любит Горева, но тоже ничего про него не сказал. Так ни с чем приезжий и полез обратно в тарантас, зацепился колесиком за железину (это Шурка сам видел) и сердито дрыгал — звенел ногой, пока стражники догадались кинуться помочь ему.
После этого мужики перестали вспоминать Горева. А если кто и заговаривал, обрывали:
— Помалкивай… Правда — далеко, кривда — под боком.
— Воистину. Держи язык на веревочке.
— Верно… Да ведь, как говорится, под лежачий камень вода не течет.
— Э! В половодье и камни ворочаются.
Они на что‑то стали надеяться, мужики. Теперь это было заметно. Словно Шуркина мамка в каждом мужике одержала верх.
Может быть, и у него, у Шурки, не так плохи дела с колечком, как кажется. Пускай самоварного золота перстенек, со стекляшкой вместо драгоценного камня, пускай цена ему — четвертак пара. Но колечко выручало Шурку не раз (ого, как выручало!) — значит, есть в нем что‑то волшебное. Помалкивай, как мужики, и надейся, и все будет хорошо.
Каждый вечер, посадив братика на закорки, Шурка бегает в поле встречать отца и мать.
Еще издали его настороженное ухо ловит редкий, отличительный от других звон знакомого бубенца. Точно далеко — далеко благовестят в церкви ко всенощной, ударяя в маленький глуховатый колокол.
От Гремца, из‑под горы, в густом багрянце заката, тучей выплывает лохматый воз сена. Он растет на глазах, заслоняет на мгновение низкое солнце. Огненно — рыжий, с ослепительной прозеленью венец вспыхивает на растрепанной макушке громадного воза. Появляются дуга с бубенцом, белесая кивающая морда Лютика, вровень с ней — картуз отца, розоватые грабли на плече матери. Шурка бросается навстречу, оглашая поле радостным криком. Ванятка начинает плакать, завидев мать. Она берет его на руки, а Шурка без слов, умоляюще задирая голову, трется около отца.
— Ну, полезай… держись за ужище, — говорит отец, подсаживая Шурку на воз. — Да смотри не упади!
— Не упаду, тятенька, нет… Я сам, сам!
Он хватается обеими руками за тугую толстую веревку, которая настоящим ужом ползет через весь воз, впивается пальцами босых ног в податливую, душистую, щекочущую гору и, осыпая сено, карабкается к небу.
Вот он и на возу, как на облаке, лежит, запыхавшись, на животе и, вдыхая мяту, горечь и сласть волглой травы, плывет куда‑то, тихо покачиваясь. Ничего нет над ним и вокруг него, кроме неба. Оно по — прежнему недосягаемо высокое, золотисто — голубое и бесконечное. Края воза обрываются, как в бездну, и оттого кружится немного голова, приятно щемит сердце, и руки не выпускают ужища. Но если приподняться на локти, обман и страх исчезают, небо, отодвигаясь, как бы расступается. Видно поле до самой Волги, ярко раскрашенное щедрым маляром — летом. Каждая полоска, точно палисад, цветет весело. А в озимом поле расстилается, докуда хватает глаз, вызолоченное солнцем ржаное море. Внизу глухо брякает бубенцом Лютик, поскрипывают колеса, мать невнятно и ласково говорит что‑то Ванятке. Сизая струйка дыма отцовской папиросы, не добравшись до Шурки, тает в воздухе. Под телом образуется удобная ямка; Шурка лежит в ней, как в гнездышке.
В селе, гулко пересчитав бревна на мосту, воз ныряет под крышу цветущих лип.