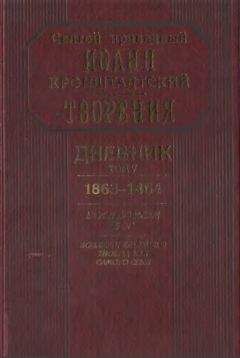Чиновник опять что-то быстро ответил ему и занялся бумагами другого. Старик продолжал стоять у окошечка, держась за деревянный выступ, словно утопающий за спасительное бревно.
— Что мне делать, если вы не продлите мне разрешение? — спросил он.
Чиновник больше не обращал на него внимания. Старик повернулся к людям, стоявшим позади него.
— Что же мне теперь делать?
В ответ он увидел только взгляды озабоченных, затравленных и словно окаменевших людей. Никто ему не ответил, но никто и не гнал его. Бумаги подавались в окошечко прямо через его голову, с величайшей осторожностью, чтобы его не задеть.
Старик снова повернулся к чиновнику.
— Ведь кто-то должен мне сказать, что мне теперь делать! — повторил он тихо. И он продолжал нашептывать эту фразу, испуганно глядя на чиновника и наклонив немного голову вперед, чтобы дать место рукам.
Потом он замолк и внезапно, будто все силы оставили его, опустил руки, которыми он держался за выступ. Теперь эти руки, со вздувшимися венами, неестественно висели вдоль его тела — длинные и беспомощные, словно два каната, прикрепленные к плечам, а опущенный взгляд, казалось, ничего больше не замечал. И пока он здесь стоял — совершенно потерянный, — Керн заметил, как в ужасе окаменело другое лицо. Лицо другого человека, стоявшего у окошечка. Потом Керн увидел, что тот, другой, тоже что-то сбивчиво объяснял — а в итоге опять это страшное оцепенение, этот слепой уход в самого себя в поисках какого-либо спасения.
— И это вы называете раем? — повторил Керн.
— Да, — ответил Классман. — Это еще можно называть раем. Здесь многим отказывают, немногим и продлевают.
Они прошли еще несколько коридоров и очутились в помещении, которое уже не было похоже на зал ожидания, а скорее — на ночлежку. Оно было наполнено людьми. Скамеек для всех не хватало. Люди стояли или сидели прямо на полу. Керн обратил внимание на тучную брюнетку, которая сидела в углу на полу, словно наседка. Лицо ее с правильными чертами было неподвижно. Черные волосы расчесаны и перевязаны. Рядом с ней играло несколько детей. Самый маленький сосал грудь. А она сидела посреди всего этого шума, нисколько не смущаясь, со странным величием здорового зверя и с правами каждой матери, и видела только свой выводок, который играл у ее ног, словно у подножия памятника.
Рядом с ней стояла группа евреев в черных сюртуках с жидкими седыми бородками и локонами. Они стояли и ждали с выражением такого беспредельного смирения, будто находились здесь уже сотни лет и знали, что придется ждать еще столько же. На скамейке у стены сидела беременная женщина; рядом с ней — мужчина, который в волнении беспрерывно потирал себе руки. Подальше — еще мужчина, весь седой, он что-то говорил плачущей женщине. На другой стороне — прыщавый молодой человек, куривший сигарету и тайком поглядывавший на элегантную женщину, которая то стягивала, то натягивала перчатки; дальше — горбун, вносивший что-то в записную книжку; несколько румын, шипевших на своем языке, словно паровой котел; мужчина, рассматривавший фотографии, он то и дело их прятал, снова вынимал и снова прятал; полная женщина, читавшая итальянскую газету; молодая девушка, с безучастным видом сидевшая на скамье, полностью погрузившись в свою печаль.
— Это все люди, которые написали заявления на выдачу им временного разрешения, — объяснил Классман. — Или люди, которые намереваются это сделать.
— С какими же документами еще можно получить разрешение?
— Большинство из них еще имеет действительные паспорта или паспорта, срок которых скоро истекает, но они еще не обменены. Здесь также находятся люди, въехавшие в страну каким-нибудь легальным путем и имеющие визу.
— Значит, здесь еще не самое страшное?
— Нет, не самое, — ответил Классман.
Керн заметил, что, кроме чиновников, за окошечками работали и девушки. Одеты они были скромно и мило, большинство — в светлых блузках с нарукавниками из черного сатина. Керну казалось странным, что они боялись запачкать свои рукава, в то время как перед ними толпился народ, у которого была затоптана в грязь вся жизнь.
— В последние дни здесь, в префектуре, особенно плохо, — заметил Классман. — Последствия каких-либо событий в Германии всегда в первую очередь испытывают на своей шкуре эмигранты. Они — козлы отпущения.
Керн обратил внимание на мужчину с тонким умным лицом, который стоял у окошечка. Молодая девушка взяла у него бумаги и задала ему несколько вопросов. Кивнув головой, она начала что-то записывать, и Керн заметил, как у человека на лбу выступил пот. В большом помещении было довольно прохладно, тем не менее лицо мужчины, одетого в легкий летний костюм, покрылось испариной, прозрачные капли пота струились по лбу и щекам. Он продолжал стоять неподвижно, опершись руками на выступ, в предупредительной, но не смиренной позе, готовый ответить на вопрос, и несмотря на то, что ему уже продлевали вид на жительство, пот по-прежнему стекал по его лицу, говоря о том, что человек испытывает страшный страх. Казалось, этого человека жарили на невидимой сковородке бессердечности. Если бы он кричал, жаловался, умолял, Керну это не показалось бы таким страшным. Но человек стоял все в той же позе. Создавалось впечатление, что он тонет в самом себе, — страх просачивался сквозь все плотины человеческого разума.
Девушка возвратила мужчине документы и что-то дружелюбно ему сказала. Он поблагодарил ее на мягком, безукоризненно чистом французском языке и быстро вышел из зала. Лишь у выхода он развернул документы и посмотрел на них. Там он увидел только синюю печать и несколько дат, но лицо его было таким, словно для него внезапно наступила весна, а в строгой тишине зала оглушительно запели соловьи свободы.
— Ну, пошли? — спросил Керн.
— Насмотрелись?
— Да.
Они направились к выходу, но у дверей их задержала группа нищих евреев, которая окружила их, словно стая голодных растрепанных галок.
— Пожалста… помогите… — Старший вышел вперед, покорно и безнадежно разводя руками. — Мы не говорить по-французки… Помогите, пожалста… Человек, человек…
— Человек, человек… — заговорили они хором со всех сторон, размахивая своими широкими рукавами.
Казалось, только это слово они и знали по-немецки. Они повторяли его снова и снова, показывая при этом своими пожелтевшими руками на себя: на голову, сердце, глаза, — все в одном и том же мягком и настойчивом, почти льстивом монотонном пении.
— Человек, человек… — И только старший из них добавлял: — Помогите, пожалста, человек, человек… — Он знал на два-три слова больше.
— Вы говорите по-еврейски? — спросил Классман у Керна.
— Нет, — ответил тот. — Не знаю ни слова.
— Эти евреи говорят только на своем родном языке. Они сидят здесь каждый день и не могут добиться, чтобы их поняли. Ищут человека, который мог бы служить им переводчиком.
— По-еврейски, по-еврейски, — быстро закивал старший.
— Человек, человек, — зажужжали все сразу, словно рой пчел. Взволнованные, выразительные лица с надеждой уставились на Керна.
— Помогите, помогите… — Старший показал на окошечки. — Не можно говорить… только… человек, человек…
Классман с сожалением развел руками.
— Я — не еврей…
Они сразу окружили Керна.
— Еврей? Еврей? Человек…
Керн покачал головой. Жужжание смолкло. Движение рук прекратилось. Старший застыл в неподвижности и, опустив голову, еще раз спросил:
— Нет?
Керн снова покачал головой.
— А-а… — Старик еврей поднял руки к груди, сложил их треугольником так, чтобы кончики пальцев касались друг друга и образовали над сердцем маленькую крышу. Так он и остался стоять, немного согнувшись, словно прислушиваясь к какому-то далекому зову. Потом он поклонился и медленно опустил руки.
Керн и Классман вышли из зала. Дойдя до главного коридора и выйдя на площадку, на которой соединялись несколько каменных лестниц, они услышали громкие звуки музыки. Играли какой-то быстрый марш. Ликовали барабаны, и все громче играли фанфары.
— Что это? — удивился Керн.
— Радио. Наверху — комната отдыха для полицейских. Дневной концерт.
Музыка устремлялась вниз по лестницам, словно сверкающий ручей. Она застаивалась в коридорах и водопадом лилась из широких входных дверей. Ее брызги со всех сторон падали на маленькую одинокую фигурку, выделявшуюся на нижней ступеньке лестницы смутным темным пятном, — жалкий черный комочек. Это был старик, который с таким трудом оторвался от безжалостного окошечка. Потерянный и сломленный, с печальными глазками, не знающими покоя, он сидел в уголке, втянув плечи и прижав колени к груди. Казалось, что он не в силах больше подняться. А вокруг — пестрыми каскадами лилась веселая музыка, не знающая сострадания, полная силы и энергии, как сама жизнь.