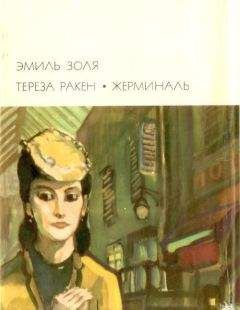— Молчи, свинья! Что, нутро жжет? Так тебе и надо! Не пил бы на дармовщинку, а лучше бы попросил у приятеля двадцать су в долг!
И она продолжала осыпать его упреками и бранью, облегчая себе сердце. Кругом была невероятная грязь, мерзость запустения, от давно не мытого пола исходил отвратительный запах. А, пусть все пропадает пропадом! — кричала жена Левака, ей теперь на все наплевать. С утра исчез ее сын Бебер, и очень хорошо, что мальчишка болтается где-то, она рада будет от него избавиться, пускай и не возвращается домой. И тут же заявила, что ляжет сейчас спать. По крайней мере согреется. Она толкнула Бутлу:
— Ну-ка, вставай, пойдем наверх… Огонь погас, свечку зажигать не стоит. Чего смотреть на пустые тарелки… Ну, пойдешь ты наконец, Луи! Я же тебе говорю, спать сейчас ляжем. Прижмемся друг к дружке, тепло станет… А этот пьяница окаянный пускай тут один околеет от холода.
Выйдя от Леваков, жена Маэ, не раздумывая, повернула к другим соседям и через огород прошла к Пьеронам. Оттуда доносился смех. Она постучалась. В доме все смолкло. Ей долго не отворяли.
— Ах, это ты! — воскликнула хозяйка с притворным удивлением. — А я думала — доктор.
И, не давая посетительнице вымолвить ни слова, затараторила, указывая на Пьерона, который сидел у ярко горевшего огня:
— Ах, не легче ему, все никак не поправится! С виду как будто и не болен, а в животе все рези, рези! Ему тепло нужно. Вот и сжигаем последний уголь.
Пьерон и в самом деле казался вполне здоровым, — румянец во всю щеку, плотная фигура. Он кряхтел тщетно пытаясь изобразить больного. Как только Маэ вошла, она сразу услышала запах кроличьего рагу, — блюдо, несомненно, спрятали. На столе оставались крошки хлеба, а на самой его середине красовалась забытая бутылка вина.
— Мать пошла в Монсу, — может, хлеба кто даст. Вот и ждем ее, томимся голодные.
Вдруг голос ее оборвался от смущения: она заметила, что соседка смотрит на бутылку. Но мгновенно оправившись, принялась сочинять: да, да, в бутылке вино, его принесли из Пиолены хозяйка с дочерью: доктор им сказал, что Пьерону нужно пить красное вино. И она рассыпалась в похвалах благодетельницам: такие славные люди, барышня совсем не гордая, заходит в дома к рабочим, сама раздает кому что.
— Знаю, — подтвердила Маэ. — Я с ними знакома.
Сердце у нее защемило при мысли, что всякие блага постоянно идут тому, кто в них не очень нуждается. А другим сроду не бывает удачи. Хозяева Пиолены подлили, как говорится, воды в речку. И когда это они были в поселке? Она их и не заметила. Может, и ей бы что-нибудь перепало.
— Я к тебе пришла попросить хлеба, — проговорила она наконец. — Думала — у вас в доме посытнее, чем у нас… Нет ли у тебя хоть вермишели… Я бы отдала потом.
Хозяйка разахалась:
— Милая ты моя, нет ничего! Хоть шаром покати!.. И мать все не возвращается. Верно, не удалось хлеба достать. Придется лечь без ужина.
В эту минуту из подвала донесся плач, и хозяйка, разгневавшись, принялась колотить кулаком в дверцу. Там заперта ее падчерица Лидия, сообщила она, в наказание за то, что дрянная девчонка целый день где-то Шлялась и домой пришла только в пять часов вечера. Негодница от рук отбилась, то и дело куда-то убегает.
А Маэ все стояла у порога, не решаясь уйти. Так приятно было погреться в теплой комнате. Но здесь пахло жареным мясом, а от этого у нее еще больше засосало под ложечкой. Наверняка Пьероны нарочно услали старуху, а Лидию заперли, и хотят на свободе полакомиться крольчатиной! Эх, что ни говори, а в доме у распутных баб нужды не знают!
— Прощай, — сказала она, помолчав.
На дворе было уже совсем темно; луна, прячась за облаками, озаряла землю тусклым светом. Маэ не пошла напрямик, через огороды, а направилась в обход, ее терзало отчаяние, страшно было вернуться с пустыми руками. Все дома словно вымерли, чувствовалось, что за каждой дверью воцарился голод, что в комнатах гулкая пустота. К кому же постучаться? Везде нищета и мучения. Вот уже третью неделю нечего есть. Даже испарился запах поджаренного лука, въедливый, крепкий запах, который прежде слышен был еще в поле, далеко от поселка; теперь везде тянуло только сыростью и плесенью, как из старого погреба, — запахом подземелья, где никто не живет. Затихли смутно доносившиеся звуки — глухие рыдания, бранные возгласы, настала глубокая, гнетущая тишина, и Маэ ясно представляла себе, как подкрадывается к голодным тяжелый сон и как их мучают кошмары.
Проходя мимо церкви, она заметила быстро промелькнувшую фигуру. В ее душе забрезжила надежда, Маэ узнала священника приходской церкви в Монсу аббата Жуара, который по воскресеньям служил мессу в маленькой церкви поселка; вероятно, он приходил в ризницу по какому-нибудь делу и теперь возвращался домой… Сутулый, пухлый, ласковый, желавший со всеми ладить, он шел торопливо, почти бежал, стараясь проскользнуть незаметно под покровом темноты, так как не желал компрометировать себя, якшаясь с забастовщиками. Говорили, впрочем, что он получил повышение и уезжает. Некоторые видели, как он прогуливался в обществе своего преемника, тощего аббата с горящим взглядом.
— Господин кюре, господин кюре! — пробормотала Маэ.
Но он не остановился.
— Добрый вечер, добрый вечер, голубушка.
И вот Маэ очутилась перед своим домом. Ноги больше не держали ее. Она вошла.
Она застала все ту же картину. Маэ в глубокой тоске по-прежнему сидел на краю стола. Старик дед и дети, чтобы не так было холодно, жались друг к другу на скамье. Никто не произнес ни слова, свечка почти догорела; каждый знал, что еще немного — и наступит темнота. Когда стукнула дверь, дети оглянулись, но, видя, что мать ничего не принесла, снова уставились в пол, не смея заплакать — а то еще накажут. Мать пришла и вновь присела на корточки перед угасающим огнем. Никто ни о чем не спросил, не нарушил молчания. Все понимали, что спрашивать бесполезно: зачем еще утомлять себя разговорами? Все пали духом, застыли в угрюмом, вялом ожидании помощи, которую, может быть, принесет им Этьен, раздобыв где-нибудь пищи. Шли минуты, одна за другой, никто не считал их.
Наконец явился Этьен, принес в узелке десятка полтора вареных холодных картофелин.
— Вот все, что я добыл, — сказал он.
У Мукетты хлеба тоже не было: она отдала свой обед, насильно заставила его взять этот узелок и от всего сердца расцеловала Этьена.
— Спасибо, я не хочу, — сказал он, когда жена Маэ положила перед ним его долю. — Я там поел.
Он солгал и с угрюмым видом смотрел, как дети набросились на еду. Отец и мать взяли понемногу, чтобы детям досталось больше, но дед ел с жадностью. Пришлось отобрать у него одну картофелину для Альзиры.
Потом Этьен сказал, что узнал кое-какие новости. Компания, раздраженная упорством забастовщиков, собирается уволить самых скомпрометированных. Очевидно, она решила перейти в наступление. И еще одна важная новость: говорят, дирекция хвастается, что она уговорила очень многих углекопов с завтрашнего дня прекратить забастовку. В шахтах Виктуар и Фетри-Кантель будто бы все выйдут на работу; даже в Мадлен и в Миру́ треть состава согласилась выйти.
— Ах, сволочи! — крикнул отец. — Если нашлись предатели, надо с ними расправиться.
И, вскочив на ноги, он, весь дрожа от гнева и муки, воскликнул:
— Завтра вечером соберемся в лесу!.. Раз нам мешают совещаться в «Весельчаке» — пойдем в лес. Там мы как у себя дома. В лес!
Старик Бессмертный очнулся от дремоты, в которую погрузился после еды. Ведь он услышал давний клич сбора — именно в лесу в прежние времена углекопы сговаривались меж собой, организуя сопротивление королевским войскам.
— Да, да. В Вандамский лес! И я пойду, ежели там соберутся.
Жена Маэ широко взмахнула рукой:
— Все пойдем! Пора кончать с несправедливостью и предательством.
Этьен решил, что сходку, на которую соберутся все рабочие поселка, надо созвать на следующий день вечером.
Пока говорили об этом, в доме, так же как у Леваков, погас огонь в очаге и догорела свеча — свет вдруг потух. Угля больше не было, не было и керосина для лампы. Пришлось ощупью подниматься наверх и ложиться в потемках. От холода зуб на зуб не попадал. Дети плакали…
VI
Жанлен поправился и стал ходить; но кости у него срослись плохо, он хромал на обе ноги; однако стоило посмотреть на него: ковыляя и переваливаясь, словно утка, он бегал так же быстро, как прежде, и проявлял все такую же ловкость зловредного и вороватого зверька.
В тот день, уже в сумерках, в компании с неразлучными своими приятелями, Бебером и Лидией, он устроил засаду у Рекильярской шахты за оградой пустыря, как раз напротив жалкой, кособокой лавчонки, стоявшей близ дороги. Полуслепая старуха лавочница расставила там четыре мешка чечевицы и черных от пыли бобов; на двери висела засиженная мухами вяленая треска, с которой Жанлен не сводил своих узких глаз. Он дважды посылал туда Бебера, приказывая ему стащить этот предмет своих вожделений, но всякий раз кто-нибудь появлялся на повороте дороги. Вот ведь мешают, черти! Не дают людям заняться своими делами.