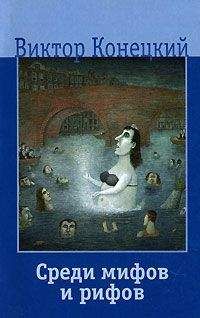Сейчас низко склоняю голову перед его навечно светлой памятью.
Второе письмо: «Настойка „Ерофеич“ была известна уже в 18 веке, название она получила по отчеству своего составителя, некоего фельдшера, который был в большой моде в середине 18 века. Сей фельдшер внес свой вклад в русскую историю еще и тем, что светлейший князь Г. Потемкин, поставив на больной глаз припарку, составленную по рецепту Ерофеича, на оный глаз окривел, что привело к заметному падению популярности эскулапа. Подробности жизни Ерофеича излагаются в нескольких мемуарах, опубликованных в „Русской старине“ в 70 гг. прошлого века. С глубоким уважением. Извините за почерк. Мне, как физику-теоретику, чистописание, как и правописание, всегда давалось с трудом. Л. Э. Рикенглаз».
РДО: «На борту румынского судна больной требуется медицинская помощь. Ш. 04° 05 ю. Д. 75° 15 вост.».
Далеко.
Ночами ливни. Молнии каждые две-три минуты. И грома нет. «И бросить то слово на ветер, чтоб ветер унес его вдаль…»
Ветер уносит вдаль громы. Остаются беззвучные ослепительные зигзаги в половину горизонта. Течет через переговорную трубу с пеленгаторного мостика. Течет за обшивкой переборки в рубке. Коротит электропроводку. Экран радара – сплошное зеленое пятно. Никакой пользы от радиолокации в тропический ливень. Не видны и собственные ходовые огни. Вода шумит, как танки на Курской дуге.
В такие океанские грозы и появились на белый свет «летучие голландцы», морские змеи и прочая чертовщина. Всю вахту так напряженно таращишь глаза, что начинает мерещиться нечто и впереди, и позади, и по бокам.
Все это градусах в семи – пяти от экватора. А на самом экваторе в Индийском океане стоят странные безветренные дожди. Они выпадают из низких туч ровными отдельными колоннами. Штук десять – пятнадцать дождевых перламутровых колонн стоят по кругу горизонта и как будто думают свое, неподвижные и бесшумные. И мы идем между этих колонн, как в огромном планетарном зале, как в огромном католическом соборе, под сводами туч. Солнце не просвечивает, теней от дождевых колонн нет. Призрачно. Штиль мертвый. Вода – расплавленный, без морщинки свинец. И из этой ровной густой воды каждый раз неожиданно вырываются летающие рыбки и веерами уносятся от судна. Приводняясь, они несколько раз задевают хвостом воду, и на ней остаются «блинчики», как от умело пущенной рикошетом плоской гальки. Душное тепло. И очень тихо.
Да, гениальный архитектор строил мира здание.
Ночью мощная луна освещает контуры туч, глубины туч кромешно черны, колонны дождей тоже черны, но иногда между ними струит от луны ослепительная дорожка. Штиль над океаном продолжает оставаться мертвым. В небесах идет жизнь. Края туч меняют очертания. Мощные кучевые облака вздымаются на огромную высоту. Вокруг лика луны прозрачной шалью заворачиваются слоистые облачка, а может – перистые. Все, что только может придумать небо, есть на экваторе ночью.
Заполнив вахтенный журнал, пятнадцать минут пятого я иду купаться. На палубах темно. Сон витает вокруг. Над бассейном легкий ветерок от движения судна. Раздеваюсь догола. Посвечиваю фонариком на скобы трапа. Черная вода чуть покачивается среди смутно белеющего кафеля стенок. Медленно спускаюсь в воду. Плюс тридцать, но вода сразу осторожно и ласково освежает. Полная тишина. Лежу на спине посредине бассейна.
Надо мной закрученные штопоры антенн радиотелефонной связи с космонавтами. За ними освещенные луной клубящиеся края туч и сама луна, по которой уже ходили люди. Вода в бассейне, и я вместе с ней, чуть колышется и подрагивает в такт машинам. Неподвижно стоят над Индийским океаном дождевые колонны. Вдруг восторг наполняет уставшую душу. Затем мысль, что впереди ждет отварная картошка с колбасой и уютная койка, заменяет божественный восторг на земное блаженство. На несколько минут я превращаюсь в дельфина – плюхаюсь, кувыркаюсь, толкаюсь руками и ногами от стенок бассейна. Горько-соленая вода щиплет кожу и не дает нырнуть.
Одеваясь, думаю о том, что это очень длинный рейс, это тяжелый рейс, это черт знает какой рейс, но будь я проклят, если забуду ночи среди молчаливых дождей в Индийском океане.
Румыны передали, что их больной умер и они просят теперь никого не беспокоиться. Зато шведы передали, что потерянный ими пятнадцать часов назад человек найден. Все это время он продержался на черепахе. Почему она не нырнула, чтобы освободиться от лишнего груза? На месте шведа я больше никогда не стал бы есть черепаховый суп и выкапывать из теплого песка здешних островов теннисные мячики ее яиц.
Не знаю в литературе морского пейзажа, равного по художественности земным. Или фотографичность, или очеловечение моря. Схожесть описаний у самых разных писателей и великолепная забываемость прочитанных описаний, в которых обычно столько же святой правды, сколько и святой лжи. Это касается открытого моря. Прибрежный пейзаж выручил многих писателей. Он удается великолепно.
Давно известно, что любое описание природы имеет смысл только тогда, когда человек наблюдал ее ранее со специальной, утилитарной целью, а не «вообще». Просто наблюдать пейзаж с целью описать – значит неминуемо родить мертвого ребенка. Бесконечность деталей природы и ее состояний вынуждает к отбору. Отбор обусловлен целью. Известно, что многие хорошие писатели охотились. Охотник идет по следу. И читатель идет за ним. Известно, что писатели-феодалы остались в описаниях пейзажа непревзойденными. Они были помещиками, смотрели на землю глазами хозяина. Когда Толстой пахал или косил, он не только опрощался. Он даже бессознательно отбирал из пейзажа только то, что видит косец и что ему важно, – от степени влажности травяного стебля до угрозы подходящей тучи.
Прогулка отличная вещь, но бесплодная на девяносто девять процентов. Прогулка может родить в поэте напевы, а напевы родят стихотворение. Но проза штука более тягостная. Она, как заметил Моруа, не дает возможности выдавать напевы за мысли.
Экзюпери написал небо как никто, потому что летел сквозь него на самолете. Он знал цену атмосферному давлению, суточному ходу ветра, температуре подстилающей поверхности. Точка росы, заря утренняя и вечерняя, иззаоблачное сияние солнца, окраска звезд, форма небесного свода, венцы, мерцания звезд, радуга, продолжительность сумерек, слышимость звука в атмосфере – вот из чего складывается пейзаж для того, чья работа – движение вокруг планеты. Но всегда кажется, что писать о таких вещах утомительно для читателя, если он не студент гидро-метеоинститута.
Утром 27 августа открылась Суматра при сером дождливом небе, в зените которого просвечивало беспощадное солнце.
Вышли на островок Брёз, подвернули в Бенгальский проливчик к острову Рондо. Близко свисали над прибоем пальмы и всякие лианы, именно так свисали, как в мечтах всех мальчишек мира. Хотя… Что я знаю о мечтах сегодняшних мальчишек?
Вот и Андаманское море, вход в Малаккский пролив. Мангры на берегу Суматры, их бледные стволы.
Розовые бунгало в бухте Вэ и белые восклицательные знаки створных знаков. Пенные полосы сулоя среди штилевой воды, прибойный шум сулойных волн и та штурманская тревога, которая всегда появляется, когда пересекаешь полосу возмущенной воды, стремление еще и еще определиться – не на рифах ли шумит вода?
Индонезия – далекая страна, окутанная дымкой нежной песни, залитая ныне кровью и жуткая, ибо нежность Азии, очевидно, обманчива, как отражение цветка в стальном клинке. Морями теплыми омытая, лесами древними покрытая, влекущая моряка в полуденные края напевами прекрасных песен…
Пролетел индонезийский военный самолет, размалеванный жуткими драконами. Заложил вокруг несколько слишком, пожалуй, близких виражей. Наши космические антенны вызывают любопытство вояк планеты. И не только вояк. Со встречных судов белоснежные штурмана обязательно тянут к глазам бинокли.
Раньше жаргонное название корабля «коробка» как-то саднило налетом пижонства. А теперь я понял, что иногда судно надо ощущать обыкновенной большой железной коробкой, а себя сидящим в этой коробке, потому что все именно так и есть, и это можно не только понять, но и ощутить, и я ощутил. А ощутив, лег на диван, задрал ноющие ноги на стенку каюты и принялся за «Улицу Ангела» Пристли. Он объяснил мне, что чувство юмора и дух терпимости – величайшие ценности в нашем железном мире; что модные в послевоенные времена разговорчики о «третьей силе» – чепуха. И по праву третьей силой можно счесть лишь чувство юмора, дух терпимости и либеральную гуманность, самое себя не принимающую всерьез… Все это, конечно, прекрасно, но ведет прямым курсом к отказу от борьбы со злом и тупостью. И как вылезать из этого переплета, мистер Пристли? И не кажется ли вам, сэр, что пропасть между интересной мыслью и мудростью не менее глубока, нежели пропасть между мудрой мыслью и мудрым поступком?