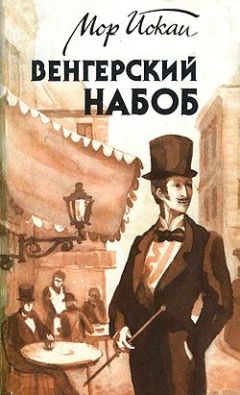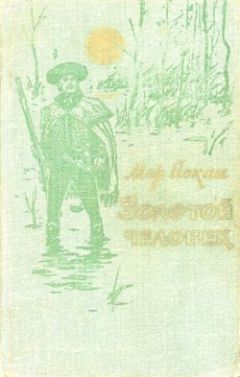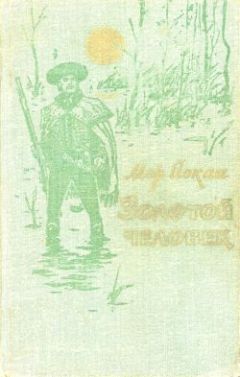– Жених твой, правда, немолод, но роскошь, высокое положение сулит вместо любви.
– Кто это?
– Имя не очень для нас приятное, как раз господин с таким именем больше всего огорчений нам причинил – искуситель тот. Дядя это его, Карпати Янош.
– Ах, этот толстяк, пузатый, как паук? – расхохоталась девушка.
– Да он похудел с некоторых пор.
– Который вздорным таким чудаком слывет?
– Успел уже образумиться.
– И пьет без просыпу, и с девушками крепостными развлекается?
– Образ жизни он переменил.
– Ах, приемный папенька! Вы пошутили, да? А если нет, значит, он шутку хочет со мной сыграть! На потеху всем в жены меня взять. Но так низко я еще не пала!
И, выпрямившись, она горделиво прошлась по комнате. Старики с блистающими глазами любовались ее королевской осанкой.
В конце концов мастер сам рассмеялся от полноты чувств.
Фанни прыгнула шаловливо на колени доброму старику.
– Как же так, папенька, когда я давеча сказала, что за вас пойду, вы ответили, что в дедушки мне годитесь, а теперь вот барина Янчи сватаете за меня?
Мастер смеялся до слез. Ошибся все-таки, значит, старый сердцеед, нет закона, общего для всех. И детская душа достаточно сильна, чтобы пренебречь богатством, хотя только руку протяни – и блеск, могущество уже на пальце твоем, точно обручальное кольцо.
– Да, кольцо вот оставил этот почтенный господин, обратно ему в случае отказа отослать.
– Может, прямо в корзинку положить? – спрашивала разыгравшаяся шалунья.
– Не надо, и так поймет, – отвечал мастер со смехом.
Даже старая добрая Тереза смеялась, хотя давнехонько с пей этого не случалось.
Болтаи был в полном восторге. Причиненное ему Шандором огорчение совсем затмила радость, что его питомица обнаружила такую прирожденную душевную силу. Он уже предвкушал с гордостью, как скажет этому богачу: «Вот, ты полтора миллиона сулил за розы, что на щеках моей подопечной; спасибо, не продаются!» С каким презрением будет на всех этих господинчиков поглядывать, думающих за гнусные свои тысячи купить Фаннину любовь! Нищеброды!
Оба поцеловали девушку и, пожелав друг другу спокойной ночи, разошлись по своим комнатам.
Было поздно, время ложиться. Но ах, не время спать! Незримый какой-то, беспокойный дух гнал сон ото всех троих.
Болтаи такие длинные речи слагал и произносил в уме, будто в городские ходатаи, записался.
Тереза мыслями возвращалась к событиям прошлого и настоящего, стараясь распутать противоречивые побуждения, владеющие сердцем девичьим, распознать, что в нем хорошего, что дурного, где кончается безотчетный порыв и начинается твердая воля. Ах, сколько там тайн, о которых сама она не догадывается, притворства, переходящего в самообольщение, пустых мечтаний, кажущихся ей чистой правдой. Кто во всем этом разберется? Черта, ангела понять легко, взрослого человека – мужчину, женщину – потруднее, а юную девушку и вовсе невозможно.
Ну а Фанни добрые феи сна обходили с особым тщанием.
В окно заглядывал месяц, это светило мечтателей; воздух был сладостен и тих. Эльфы спускаются в такие ночи с горних высей на землю и резвятся в росистой траве, феи сбирают прах упавших звезд, а древний тот старик на луне перебирает серебряные лучики-струнки. Серебристым облачком струятся чары со звездного неба, и страшные детские сны порхают черными мотыльками…
Юные девушки не могут в такие ночи заснуть и грезят наяву.
Куда же устремилась она невинной своей душой? Обратилась ли робкими мыслями к счастью, к любви иль в страну почивших удалилась; пыльными, сухими тропами знания плелась или воспарила в звездные просторы грядущего, в небо, которое, как думают дети, куполом опускается на землю со всех сторон?
Одно лишь воспоминанье, один образ жили по сю пору в ее сердце. Лицо того, кого она полюбила, кого увенчала обожанием, вообразив себе славным, великим, благородным; чей облик, улыбка в минуты одиночества всегда оставались с ней, даруя отраду и покой.
И теперь вдохновенье уединенных минут изгнало из памяти и чудного старика, и печального юношу, желавших на ней жениться; известие опекуна о двойном сватовстве совершенно позабылось.
Таков уж порядок вещей. Юноша любит девушку, но она влюблена в другого, а тот, в свой черед, быть может, томится по ком-нибудь безнадежно, и так идет всю жизнь, и, счастье никому не достается: звезда лишь несется за звездой, никогда ее не настигая.
Где может он быть сейчас, незнакомый, безымянный, незабвенный? И не подозревает, наверно, что кто-то втайне тоскует по нем. Так луна не ведает о лунатике, следующем за ее лучом и ступающем в головокружительную бездну, лишь бы к ней приблизиться.
Хоть бы приблизиться к нему!
Счастливицы эти светские дамы, которые могут видеть его каждый день, болтать с ним, удивляться ему и поклоняться. Быть может, и избранница есть у него среди них? Но кто же в состоянии любить его так страстно, самозабвенно, как она, готовая даже умереть ради него, хотя никогда ему этого и не скажет? Чуть-чуть оцарапано сердце шипом, и вот ни о чем уже больше и думать нельзя, кроме сладостной этой боли, пока наконец рана не станет смертельной; день за днем хиреть, увядать и в могилу сойти от нее, чтобы лишь тогда он узнал, как был любим; лишь под молчаливым кладбищенским холмиком внимать негромким его рыданиям – этой меланхолической Дани, коей нежное сострадание почтит посмертный ее алтарь.
Отчего не дано ей так же близко быть от него?…
Не дано?
Странная мысль вдруг ее пронизала.
Так ли уж недосягаемо это блистательное светское общество? Уж так заказаны туда все пути, что благоговейное ее влечение навек должно остаться лишь немым душевным томлением, наподобие лунатического транса?…
Да ведь стоит ей только слово сказать, и самые надменные салоны отворят перед ней свои двери и она окажется в одном ранге с высокопоставленными дамами, которые, на зависть ей, свободно могут созерцать лик и слышать голос ее кумира, – в одном ряду с ними будет краснеть, встречая его взгляд, и сама провожать его неотступным взором, алчно впивая тайные яды, которыми отравляет безответная любовь.
Дрожь прошла по ее телу.
Может, свежий ночной зефир ее коснулся?
Отдай руку Карпати – и ты у цели. Шаг – и ты в вышине, мнившейся недостижимой.
Но мысль эта ее устрашила. На мгновение лишь допустила она ее в душу и тотчас изгнала оттуда.
Что скажут ее близкие – Болтаи, Тереза? Славного, мужественного, благородного юношу отвергла, а старцу нелюбимому ради денег, ради роскоши согласие дала. Из корысти, из тщеславия.
Но есть все-таки и другие близкие люди, которых осчастливил бы этот шаг, избавил на старости лет от позора, а может, и вечных мук: мать, сестры.
Их, будь она богата, из страшной бездны можно извлечь… Вот что ей нашептывал искусительный расчет. И потом – месть, расплата: с тем встретиться, кто ее хотел опозорить, кто деньги ставил на нее, и самого высмеять перед его друзьями, самого унизить в его же кругу; дать ему свое глубочайшее презрение почувствовать, откровенную брезгливость, которую тем весомей сделает равнозначное имя, тем больнее и невыносимей могущество, вырванное из его рук.
Умничай, умничай, невестушка. Попалась уже.
Не жажда мести движет тобой, не дочерняя и сестринская любовь, а совсем другая: она, как вспыхнувшая новая звезда, будет сиять тебе ярче всех миров, добрых и дурных, а прочее – один самообман.
Можешь себя уверять, что жертвуешь собой, говорить, что опекуну не хочешь быть в тягость; воображай, будто в новом своем положении много добра сделаешь обездоленным страдальцам, упивайся радужными мечтами о всеобщем благе… Мираж это все, самообольщение. Любовь побуждает тебя дать согласие немилому старику богачу, и бога ты пойдешь искушать к алтарю, чтобы сказать пред ним «люблю», думая вовсе не о том, в чьей руке трепещет твоя собственная…
Следуй же за роком своим!
Весь дом смежил наконец глаза. Спите! Утро вечера мудренее.
Ты приснись себе счастливым дедом, играющим с внуками, тебя пусть объемлют монастырские тишь и покой, а ты окажись во сне близ предмета своего, как звезда, летящая вослед другой. Утро вечера мудренее!
Утром на стариков свалилась нежданная новость. Фанни попросила Болтаи, если Янош Карпати пришлет за кольцом, не отсылать его обратно.
XV. Охотник в вырытой им яме
Болтаи с Терезой, ни слова не сказав и воздержавшись от всяких суждений о браке Фанни, принялись готовить приданое, как того требовал обычай. Выйдя за набоба, она себе накупит вещей, конечно, пошикарнее, но на эти хоть взглянет изредка, о мирных, скромных радостях вспомянет среди великосветского блеска и суеты.
Приготовления к свадьбе велись, однако, в такой тайне, что никто ничего не знал, кроме лиц заинтересованных, они же не имели привычки хвастаться или жаловаться.
Тем временем приключилась странная история.