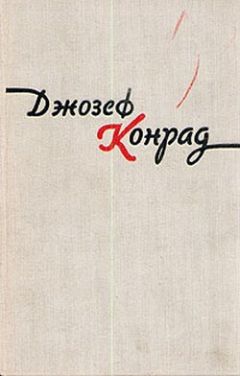— Она и в самом деле умирает, сеньор доктор?
— Да, — ответил доктор, и его изувеченная шрамом щека как-то странно дернулась. — А вот почему ей хочется вас увидеть, ума не приложу.
— С ней ведь и раньше бывало такое, — проговорил Ностромо, не глядя ему в лицо.
— Знаете что, капатас, могу вас заверить, больше с ней такого уже не будет, — злобно огрызнулся доктор Монигэм. — Воля ваша — можете подняться к ней, а можете и не подниматься. Разговоры с умирающими неприбыльное занятие. Но она в моем присутствии сказала донье Эмилии, что относилась к вам, как мать с того дня, когда вы сошли на этот берег.
— Да! И никогда никому обо мне не сказала ни единого доброго слова. Больше было похоже на то, что она не может мне простить, как это я живу на белом свете да к тому же стал таким человеком, каким ей хотелось бы видеть своего умершего сына.
— Возможно! — прогремел возле них низкий скорбный голос. — У женщин есть разные способы себя мучить. — Это вышел из дому Джорджо Виола. Его тень была густой и черной, и факел освещал его лицо, крупную голову с пышными седыми волосами. Он протянул руку и подтолкнул капатаса к дверям.
Доктор Монигэм, порывшись в деревянном полированном ящичке с лекарствами, который лежал на сиденье коляски, вынул флакончик со стеклянной пробкой и сунул его в большую дрожащую руку старика Джорджо.
— Время от времени давайте по столовой ложке, разбавив водой, — сказал он. — Ей будет полегче.
— А кроме этого для нее уже ничего не осталось? — с болью в голосе спросил старик.
— Нет. Ничего, — не поворачиваясь, отозвался доктор и щелкнул замком.
Ностромо медленно прошел по большой кухне, ничем не освещенной, кроме углей, горевших в плите, на которой громко булькала вода, кипевшая в железном котле. По узкой лестнице, заключенной между двумя стенами, струился яркий свет из комнаты наверху; и лихой капатас каргадоров, бесшумно движущийся в мягких комнатных сандалиях, с пышными усами и в клетчатой рубашке с расстегнутым воротом, которая не закрывала мускулистую шею и бронзовую грудь, был точь-в-точь матрос со Средиземного моря, только что сошедший на берег с какой-нибудь груженной вином или фруктами фелуки. Поднявшись наверх, он остановился, широкоплечий, узкобедрый, гибкий, и посмотрел на большую кровать, похожую на парадное ложе, застланную белоснежным бельем, а среди всего этого великолепия сидела Тереза, не опираясь на подушки и низко опустив красивое темнобровое лицо. Густые черные, как смоль, волосы, в которых виднелось лишь несколько белых нитей, покрывали ее плечи; одна волнистая прядь спустилась и прикрыла щеку. В этой позе она замерла неподвижно, однако все ее существо выражало беспокойство и тревогу, а глаза смотрели только на Ностромо.
Капатас носил красный шарф, много раз обвитый вокруг талии, и массивный серебряный перстень, блеснувший на указательном пальце руки, которую он поднял, чтобы подкрутить усы.
— Эти восстания, эти восстания, — задыхаясь, говорила сеньора Тереза. — Взгляни, Джан Батиста, они убили меня наконец!
Ностромо ничего не ответил, и женщина, глядя снизу вверх, настойчиво повторила:
— Взгляни, это последнее восстание меня убило, пока ты ездил куда-то сражаться за что-то, что тебя вовсе не касается, дурак.
— К чему так разговаривать? — пробурчал сквозь зубы капатас. — Вы, наверное, никогда не поверите, что у меня есть голова на плечах. Я должен быть всегда таким, каким меня все знают; это важно: что бы ни случилось — я такой же, как всегда.
— Ты и в самом деле не меняешься, — с горечью заметила она. — Только о себе и думаешь, а плату получаешь похвалами от людей, которым на тебя наплевать.
Враждебность связывала их так же тесно, как связывают взаимное согласие и приязнь. Ностромо не оправдал ожиданий Терезы. А ведь никто иной, как она, уговорила его уйти с корабля в надежде, что он станет другом и защитником ее дочерей. Жена старого Джорджо знала, что слаба здоровьем, и ее мучил страх: как в случае беды придется ее одинокому немолодому мужу и беззащитным детям. Ей захотелось принять в свою семью этого спокойного и уравновешенного на вид молодого человека, симпатичного и покладистого, да к тому же, как он ей рассказывал, оставшегося с младенческих лет сиротой и не имевшего в Италии родственников, кроме дяди, владельца и капитана фелуки, который так скверно обращался с племянником, что тот сбежал от него тринадцати лет.
Он показался ей отважным и трудолюбивым человеком, который непременно добьется в жизни своего. Он будет благодарен им и, конечно, привыкнет и станет для них с мужем, как сын; и кто знает, когда вырастет Линда… десять лет разницы между мужем и женой не так уж много. Ее собственный супруг почти на двадцать лет ее старше. А кроме того, Джан Батиста привлекательный парень; он нравится и мужчинам, и женщинам, и детям, потому что от него всегда словно исходит тихий сумеречный свет, глубокое незыблемое спокойствие, которое придает еще больше обаяния его мужественной внешности, твердости и решительности.
Старый Джорджо, не имевший представления о помыслах и надеждах жены, был очень расположен к своему молодому земляку. «Не положено мужчине быть тихоней», — повторял он ей не раз испанскую пословицу, вступаясь за бесшабашного капатаса. А Тереза ревновала его к успеху. Ей казалось, Ностромо ускользает от нее. Ее практическая натура возмущалась безалаберностью, с какой он расточал те самые свои способности, которые так высоко ценились. Слишком уж мало ему за них платили. А он не знает меры в своей щедрости — готов кому угодно услужить, — думала она. И денег не откладывает. Она ела его поедом за бедность, за подвиги, за приключения, за амурные дела, за известность; но в сердце своем ни разу от него не отступилась, словно он и вправду был ее сыном.
И сейчас, больная, такая больная, что уже чувствовала холодное, черное дыхание надвигающегося конца, она захотела его увидеть. Будто протянула онемевшую руку и ждала, чтобы та обрела былую цепкость. Но бедняга переоценила свои силы. Она не могла собраться с мыслями; в голове стоял туман и в глазах — туман. Слова не выговаривались, и только самая главная в ее жизни забота, самое главное желание словно оставалось неподвластным смерти.
Капатас сказал:
— Я все это слышал уже много раз. Вы несправедливы, но меня это не задевает. Только сейчас, сдается мне, у вас не хватит сил говорить, а у меня недостанет времени слушать. Я занят, мне поручено очень важное дело.
С большим усилием она спросила его, правда ли, что у него нашлось время привезти ей врача. Ностромо кивнул.
Она обрадовалась, даже почувствовала себя лучше, узнав, что этот человек был так милостив и позаботился о тех, кто действительно нуждался в его помощи. Это доказывает его дружбу. Ее голос окреп.
— Священник нужен мне больше, чем доктор, — горячо заговорила Тереза. Головы она не подняла; только скосила глаза, чтобы видеть стоящего возле кровати Ностромо. — Ты съездишь за священником? Не торопись, подумай! Тебя просит умирающая!
Ностромо решительно покачал головой. Он не верил священникам, не верил в их причастность к промыслу божию. Врач может помочь делом, но священник как таковой просто ничто и ни добра, ни зла сделать не может. Ностромо даже не разделял той неприязни, которую испытывал к ним старый Джорджо. Его больше всего поражала их полнейшая никчемность.
— Хозяйка, — сказал он, — вы уже и раньше так болели, а через несколько дней поправлялись. Мне нельзя больше задерживаться, у меня не осталось ни одной минутки. Попросите сеньору Гулд, пусть она пришлет вам священника.
Ему было неловко, он понимал, что отказывать в такой просьбе — кощунство. Тереза верит священникам, она исповедуется им. Но ведь все женщины исповедуются. Он не сделал ничего страшного. И все же у него на миг заныло сердце — он представил себе, как важна для нее последняя исповедь, если она верует хоть немного. Впрочем, хватит. У него и в самом деле не осталось ни одной минуты.
— Ты отказываешь мне? — изумилась она. — О… воистину, ты всегда останешься самим собой.
— Да поймите же, хозяйка, — твердил он. — Я должен спасти серебро, привезенное из Сан Томе. Вы меня слышите? Это такая ценность, с какой не сравнятся сокровища, которые, как говорят, охраняют призраки и демоны на Асуэре. Истинная правда. Я решил: пусть это будет самый отчаянный поступок за всю мою отчаянную жизнь.
Ее охватила бессильная ярость. Отказаться выполнить даже такую просьбу! Ностромо, глядевший сверху на ее опущенную голову, не видел ее лица, искаженного гневом и болью. Он только видел, как она дрожит. Ее опущенная голова вздрагивала. Широкие плечи тряслись.
— Ну что ж, господь, надеюсь, смилуется надо мною.
А ты уж постарайся, чтобы и на твою долю досталось что-нибудь, кроме укоров совести, которые когда-нибудь одолеют тебя.