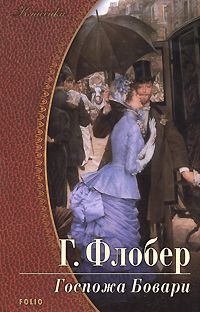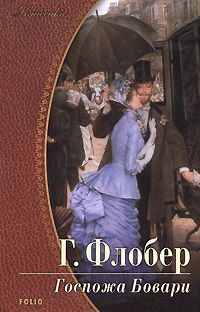Но на этом покрытом холодными каплями лбу, на этих лепечущих губах, в этих блуждающих зрачках, в этих ее объятиях было какое-то отчаяние, что-то смутное и мрачное; Леону казалось, что оно потихоньку проползает между ними, разделяет их.
Он не осмеливался задавать ей вопросы; но, думал он, она так опытна, что, наверно, уже успела в прошлом испытать все муки и все наслаждения. То самое, что когда-то очаровывало его, теперь вызывало в нем страх. Кроме того, он начинал восставать против растущего день ото дня порабощения его личности. Он не мог простить Эмме ее постоянной победы над ним. Он даже пытался разлюбить ее, но при одном звуке ее шагов снова чувствовал себя бессильным, как пьяница при виде спиртного.
Правда, она не уставала расточать ему тысячи знаков внимания, начиная с утонченности стола, кончая элегантностью туалета и томными взглядами. Она у себя на груди привозила из Ионвиля розы и осыпала ими его лицо; она выражала беспокойство о его здоровье, давала ему советы, как вести себя; чтобы крепче привязать его к себе, она, в надежде на помощь неба, повесила ему на шею ладанку с изображением пречистой девы. Она, как добрая мать, расспрашивала его о товарищах. Она говорила ему:
— Не встречайся с ними, не ходи никуда, думай только обо мне, люби меня!
Она хотела бы проследить весь образ его жизни, ей даже пришло в голову нанять человека, который наблюдал бы за ним на улице. Близ гостиницы постоянно приставал к путешественникам какой-то бродяга; он, конечно, не отказался бы… Но тут возмутилась ее гордость.
— Нет, все равно! Пусть он меня обманывает, — какое мне дело! Разве я так уж держусь за него.
Однажды, когда она раньше обычного рассталась с Леоном и одна возвращалась пешком по бульвару, ей бросились в глаза стены ее монастыря; и вот она присела на скамейку под вязами. Как спокойно жилось в те времена! Какими завидными казались ей теперь те неизъяснимые любовные чувства, которые она тогда пыталась вообразить себе по книгам!
Первые месяцы брачной жизни, лесные прогулки верхом, вальсирующий виконт, пение Лагарди — все прошло перед ее взором… И вдруг ей явился Леон — в таком же отдалении, как и прочие.
«Но ведь я его люблю!» — подумала она.
Пусть так! Все равно у нее нет и никогда не было счастья. Откуда же взялась эта неполнота жизни, это разложение, мгновенно охватывающее все, на что она пыталась опереться?.. Но если есть где-то существо сильное и прекрасное, благородная натура, исполненная и восторженных чувств, и утонченности, сердце поэта в ангельском теле, меднострунная лира, возносящая к небу трогательные эпиталамы, то почему бы им не найти случайно друг друга? О, это невозможно! Да и нет ничего, что стоило бы искать; все лжет! За каждой улыбкой скрывается скучливый зевок, за каждой радостью — проклятие, за блаженством — пресыщение, и даже от самых сладких поцелуев остается на губах лишь неутолимая жажда более высокого сладострастия.
В воздухе разнесся металлический хрип; на монастырской колокольне прозвенело четыре раза. Четыре часа! А ей казалось, что здесь, на этой скамейке, она провела целую вечность. Но в одной минуте может сосредоточиться бесчисленное множество страстей, как в узком закоулке — толпа народа.
Эмма всецело была поглощена этими страстями и о деньгах заботилась не больше какой-нибудь эрцгерцогини.
Но однажды к ней явился какой-то тщедушный, краснолицый, лысый человек и заявил, что его прислал г-н Венсар из Руана. Он вытащил булавки, которыми был заколот боковой карман его длинного зеленого сюртука, воткнул их в рукав и вежливо подал бумагу.
Это был подписанный Эммой вексель на семьсот франков: Лере нарушил все свои обещания и передал его Венсару.
Г-жа Бовари послала за Лере служанку. Он не мог прийти.
Тогда незнакомец — он все стоял, с любопытством поглядывая направо и налево из-под нависших белесых бровей, — с наивным видом спросил:
— Что сказать господину Венсару?
— Ну… — ответила Эмма, — передайте ему… что у меня нет… На той неделе… Пусть подождет… Да, на той неделе.
И человек ушел, не сказав ни слова.
Однако на другой день, в двенадцать часов, Эмма получила протест; и при одном виде гербовой бумаги, на которой в разных местах было написано большими буквами: «Судебный пристав города Бюши, мэтр Аран», так испугалась, что сейчас же побежала к торговцу тканями.
Она застала его в лавке; он перевязывал пакет.
— Ваш покорнейший слуга! — сказал он. — К вашим услугам.
Лере все же не прервал своей работы; ему помогала горбатенькая девочка лет тринадцати, которая служила у него и приказчиком и кухаркой.
Потом, стуча деревянными башмаками по ступенькам, он поднялся из лавки на второй этаж, — Эмма шла за ним, — и ввел ее в тесный кабинет, где на большом еловом письменном столе лежала стопка конторских книг, прижатая железным бруском на висячем замке. У стены виднелся за ситцевыми занавесками несгораемый шкаф, такой огромный, что в нем, наверно, должны были храниться вещи покрупнее денег и векселей. В самом деле, г-н Лере занимался закладами, — и именно здесь лежали у него золотая цепочка г-жи Бовари и серьги бедного дядюшки Телье, которому в конце концов пришлось продать свой трактир и купить в Кенкампуа крохотную бакалейную лавочку; там он стал желтее свечей, пачками громоздившихся вокруг него на полках, и умирал от катара.
Лере уселся в большое соломенное кресло и спросил:
— Что нового?
— Вот, поглядите.
И Эмма показала ему бумагу.
— Что же я могу сделать?
Тогда она вспылила, напомнила ему, что он обещал не пускать ее векселей в ход; он не стал спорить.
— Но мне больше ничего не оставалось; самому деньги были нужны дозарезу.
— Что же теперь будет? — снова заговорила Эмма.
— О, тут все очень просто: сперва суд, а там и опись… Дело табак!
Эмма сдерживалась, чтобы не ударить его. Она мягко спросила, нет ли возможности урезонить г-на Венсара.
— Ну да, как же! Урезонить Венсара! Вы его еще не знаете — он свирепей всякого ростовщика.
А все-таки г-н Лере должен вмешаться и как-нибудь помочь.
— Но послушайте! Я, кажется, до сих пор был с вами достаточно любезен.
Он открыл одну из своих книг:
— Вот!
И стал водить пальцем по странице:
— Сейчас… сейчас… 3 августа — двести франков… 17 июня — полтораста… 23 марта — сорок шесть… Апрель…
Он остановился, словно боясь допустить какую-нибудь оплошность.
— Я уже не говорю о долговых обязательствах господина доктора, — одно на семьсот франков, другое на триста! А что до ваших уплат по мелочам, рассрочек, процентов, то этому просто конца нет, запутаться можно. Я умываю руки!
Эмма плакала, она даже назвала его «милым господином Лере». Но он все взваливал на «эту собаку Венсара». К тому же у него сейчас ни сантима: никто не платит долгов, и все только тянут с него; такой бедный лавочник, как он, не может давать авансы.
Эмма умолкла; г-н Лере покусывал перо; ее молчание, должно быть, беспокоило его; вдруг он заговорил снова:
— Но, конечно, если на этих днях у меня будут какие-нибудь поступления… Я тогда смогу…
— Во всяком случае, — сказала Эмма, — как только будут остальные деньги за Барневиль…
— Что такое?..
Узнав, что Ланглуа еще не расплатился окончательно, Лере, казалось, чрезвычайно удивился. А потом заговорил медовым голосом:
— Так вы говорите, мы столкуемся?..
— О, все, что вам угодно!
Тогда он закрыл глаза, подумал, потом набросал на бумаге несколько цифр и, заявив, что все это ему очень неприятно, что дело очень скверное, что он просто пускает себе кровь, продиктовал четыре векселя по двести пятьдесят франков. Срок каждого истекал через месяц после предыдущего.
— Только бы Венсар стал меня слушать! Но как бы то ни было, решено; я не вожу за нос, у меня все начистоту.
Затем он небрежно показал кой-какие новые товары; по его мнению, ничто здесь не заслуживало внимания г-жи Бовари.
— Подумать только, вот эта материя на платье идет по семи су метр, да еще с ручательством, что не линяет! И все-таки ее так и расхватывают! Вы сами понимаете, им не рассказываешь, в чем тут дело.
Признаваясь, что он обманывает других покупателей, Лере хотел окончательно убедить Эмму в своей честности.
Потом он снова задержал ее и показал три локтя гипюра, — этот кусок ему недавно удалось найти на распродаже.
— Какая прелесть! — говорил Лере. — Теперь этот товар много берут на накидки к креслам; он в большой моде.
И тут же ловко, точно фокусник, завернул гипюр в синюю бумагу и вложил Эмме в руки.
— Но скажите по крайней мере…
— Ах, об этом после, — отвечал Лере и повернулся на каблуках.
В тот же вечер Эмма заставила Бовари написать матери, чтобы та немедленно выслала все, что осталось ему от наследства. Свекровь ответила, что у нее ничего больше нет; ликвидация закончена, и, кроме Барневиля, на долю супругов приходится шестьсот ливров годового дохода, которые она и будет аккуратно выплачивать.