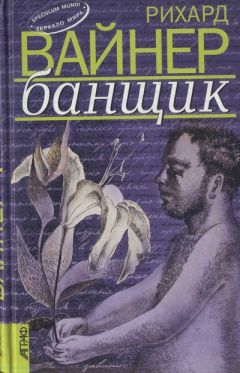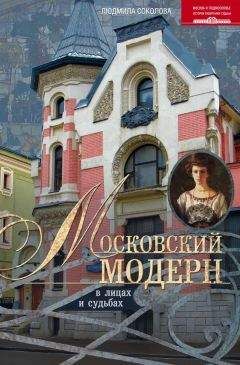Рощица, та самая рощица возле «Двух обезьян», в которой я сижу. Я некрасивый, я дряхлею, и с каким же равнодушием взирает на это красавец, полубог на зубчатой башне упсальского замка! «Такое сходство! — обращаюсь я просительно к Упсале. — По какому же праву ты отрекаешься от меня?» — «Сгинь! — говорю я Парижу. — По какому праву ты домогаешься меня?» — Произношу я это по-северному синими глазами, блуждая ими по бледному небосклону, черные же мои глаза стыдливо опускаются и слезятся, не ощущая боли. И когда глаза опускаются, они видят землю, устланную хвоей (ели опадают так, как будто бы тоже роняли слезы), видят, что люди, в том числе и родные, вовсе не то, чем они должны были бы стараться быть, что они не ворота, широко распахнутые навстречу всему иному, чем мы, но что они закрыты даже для нас, таких же, как эти люди, так что нам приходится оставаться снаружи.
Я читаю в газете, что только что закончено возведение того самого огромного купола. «Что это за купол?» — обращаюсь я к официанту, наливающему мне кофе. Он наливает его движением, которое явно пытается сообщить мне, что оно значит именно это… «Но что же?» — вопрошаю я, хотя в том уже нет нужды, ибо я понял, что движение это означало требование ко мне поднять голову. И я смотрю наверх, и действительно — над «Двумя обезьянами» вздымается беспредельный купол, можно даже сказать, что он беспредельнее, чем небеса, он молчит, молчит, но я-то знаю, что ему предназначено сообщить мне, почему люди должны быть воротами, распахнутыми навстречу всему отличному от них.
Чем дальше, тем больше мне кажется, что рощица, за которой я сижу — такой некрасивый — и за которой дряхлею, является очень важным лицом. Будь мы в ином климате, она была бы оазисом, полным финиковых пальм, усыпанных финиками, тем самым оазисом, куда я так беззаботно бегал целых двадцать лет и который потерял, причем потерял его лишь я один. Он наверняка еще где-то существует. Я подавлен, но все же продолжаю читать «Le Temps», я читаю и читаю и с иронией убеждаюсь, что телеграммы в рубрике «Dernière heure»[44] преисполнены серьезности и ответственности. Я забавляюсь своей иронией, как кошка коготками. И вот я читаю, что П.С. отплыл сегодня в Швецию, дабы урегулировать кризисную ситуацию между либералами и консерваторами. Между строк читается, что положение усугубляет придуманный Брантингом нейтралитет. А еще там прочитывается — но ни в строках, ни между ними, может быть, дело в оттенках типографской краски? — что кризис этот будет преодолен… Я вижу корабль, на котором отплыл П.С., я не могу разобрать, как он называется, знаю только, что принадлежит он компании «Messageries Maritimes». Я вижу судно так, как если бы оно было его собственным изображением на открытке, причем изображение это располагается на равном расстоянии от меня, красивого и нестареющего, что сидит на зубчатой башне упсальского замка, и меня, что сидит, съежившись среди хвои, в зарослях рождественских елок возле «Двух обезьян» и читает. П.С. проплывает на корабле «Palanguera» между нами обоими, он плывет в Швецию кружным путем мимо Великобритании, это самая короткая дорога.
Пока он на этом корабле один. Я говорю «пока», но меня тут же начинают мучить опасения, а не будет ли так до самого конца плавания? Ладно, пускай он в одиночестве, приходит мне в голову, но почему же тогда на носу корабля столько пустого места? Злюсь на себя за то, что мне это кажется странным; теперь-то ясно, что П.С. не рассчитывал плыть в одиночестве. Я не могу заглянуть ему в глаза. Говорят, в одном из них видна карта Малых Антильских островов, а в другом — карта Рая. Не то чтобы я всецело этому верил. Я убежден, что следует набраться терпения. Ибо я уже такого навидался! Помню, в Пернамбуку на базаре продавалось множество карт Рая, но все они оказались подделкой, следы Адама так перепутывались со следами Евы, что нельзя было отличить одни от других. Нечего было и пытаться понять, встретился ли когда-нибудь этот с… (Тут оказалась совершенно черная клякса.)
Я вижу П.С. вполне явственно. Он знаком мне, хотя я был уверен, что до сих пор ни разу не видел ни его, ни того, кого он напоминал мне, меня сбивало с толку, что он вышел как бы из очага и шагал одновременно по множеству тропинок, разбегающихся в разные стороны, но, невзирая на это, сумел вернуться в самого себя. (Я вижу это «в самого себя» и с трудом удерживаюсь от улыбки, понимая, что отсюда могло возникнуть недоразумение.) Одновременно я ощущаю присутствие в мире кого-то, кто хочет узнать, известно ли П.С., что путь в Швецию — если плыть кружным путем мимо Великобритании — пролегает так близко от Фингаловой пещеры, что даже при северном ветре можно слышать черный гул ее базальтовых труб. «Задушенные негой» — дает понять эта сущность, однако иначе, нежели голосом, но столь странным способом, что я невольно оборачиваюсь. Ничего.
Я вижу, что если в Стокгольме есть порт, то П.С. высадится там, а мне придется отправиться другим путем. Таким образом, нам предстоит расстаться. Мы расстанемся, ибо я внезапно осознаю, что Стокгольм — это и впрямь порт. Это столь неотвратимое расставание кажется мне чем-то, что никогда не случится, но я уже знаю также, что когда оно случится, у меня возникнет ощущение, что никогда не было ничего более неотвратимого, более естественного, чем оно.
В тот момент вдруг все отступило перед мыслью, которая, как я отчетливо видел, вилась, точно обматывающийся вокруг головы бинт; в то же время она была телеграфной лентой, на которой при помощи значков азбуки Морзе сообщалось следующее: есть люди, в которых мы заключены, словно в цельном стеклянном шаре, мы вделаны в него, мы глядим из него — и сквозь него — на все четыре стороны, и внезапно кто-то разбивает его, он рассыпается в пыль, как булонская бутылочка, я свободен и независим, и странно — тот, кто был причиной, что я не мог смотреть иначе, как сквозь него, вдруг стал для меня еще более неодолимо ничем, нежели самый безразличный мне смертный из тех, кого я могу вообразить.
Фингалова пещера трубит наперегонки с полетом чаек, П.С. прислушивается на палубе, опершись о поручень. Он слышит полет чаек, видит игру базальта. Нет, нет, он видит то, что видит, слышит то, что и предназначено слуху, но он пребывает в печальной уверенности, что лишь тогда на него снизошло бы познание, когда бы он услышал то, что сейчас только видит, когда бы увидел звуки. Конфликт либералов с консерваторами, который он едет разрешить, испарился из него. Его присутствие на палубе вследствие этого стало несколько ощутимее — еще и потому, что он сделался как бы прозрачнее. А я, не зная точно, кто я — человек на краю зубчатой башни упсальского замка или же посетитель «Двух обезьян», будучи скорее всего сращением их обоих и не чувствуя своего существа, — слежу за ним с верхушки средней мачты, в то время как он медленно тает. И вот уже не осталось ничего, кроме его тени, которая растекается по водной поверхности, состоящей из очень коротких застывших волн, подобных гофрированному железу. С этой тенью я некогда встречусь. Это будет тень, хотя бы она и не казалась таковой, но она не ужаснет меня. Прощай, мы больше не увидимся. Ибо моя миссия столь же безнадежна, как радость по поводу того, что мы ответили на вопрос, который желал остаться без ответа. Открылся горизонт — а до сих пор не было горизонта, была воистину бесконечность, и ее безграничность не потрясала, появился горизонт — на удивление твердый и четкий (твердый и четкий), а на нем — купола-луковки. Вот оно, Мальме! Тот славный университетский город, который Упсала так хотела превзойти. Когда занавес поднялся вновь, скал уже не было, а декорацию представляло собой нечто иное, не могу сказать, что. Вокзал имел таковой роковой, такой серьезный вид, что все, помимо него, утопало в равнодушии, точно Винета в своем мокром склепе, равнодушии, которое непостижимым образом проистекало из природы самой воды. Я все еще вижу этот вокзал так же явственно, как если бы я на самом деле видел его лишь во сне. И его сущность была чем-то таким, что можно было увидеть без подпорок атрибутов, — сущность как таковая. Этот вокзал был ее источником. Она вытекала из вокзала. И было заметно, что она никогда не вытечет до конца. Она текла по пологим конструкциям, образуя буруны, эти конструкции были деревянными и очень напоминали желоб, по которому поступала вода на миниатюрную мельницу парка в городе Писек. По этим конструкциям она выливалась в море. Это было, несомненно, море, но оно имело столь континентальный вид, что мы невольно искали глазами вальдшнепов или других болотных птиц. Наконец мы нашли уголок, точно сошедший с открытки, там были камыш и перевернутая лодка. И то, и другое там и в самом деле присутствовало, но только для того, чтобы издателю открыток было что фотографировать. Голос, беспомощно перемещавшийся по воздуху и напрасно пытавшийся сделаться приятным слуху, в конце концов был вынужден чем-то непреодолимым отозваться такими словами: «О Путимь, стоит тебе пожелать — и станешь ты шведской со своей часовенкой, глядящей на Штекень!»