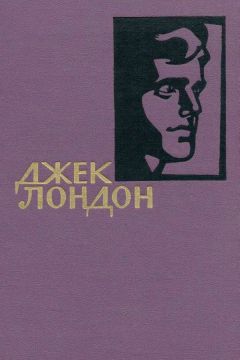В то время я немало дивилась происшедшей во мне перемене. Вспоминая безмятежные годы моей юности в замкнутом, тихом университетском мирке, я сравнивала их со всей теперешней жизнью революционерки, бестрепетно взирающей на смерть и насилие. Не верилось, чтобы и то и другое было действительностью. Но где же сон и где явь? Быть может, жизнь революционерки, скрывающейся в какой-то норе, — тяжелый кошмар, который рассеется при свете дня? Или же я действительно революционерка, и мне только пригрезились далекие годы, когда я мирно жила в городе Беркли и самыми волнующими событиями моей жизни были танцы и вечера, публичные лекции и споры за чайным столом? Впрочем, мне думается, так чувствовали все, кто сплотился под красными знаменами всемирного братства людей.
Иногда я вспоминала тех, кого знала в былые годы. Как ни странно, они время от времени возникали на моем горизонте, чтобы тут же исчезнуть без следа. Например, епископ Морхауз. Мы тщетно разыскивали его, когда наша организация окрепла. Его переводили из одного сумасшедшего дома в другой. Стало известно о его временном пребывании в Стоктоне и Санта-Кларе, а потом след его затерялся. Сведений о смерти тоже не было. Видимо, ему удалось бежать. В то время я и представить себе не могла нашей будущей страшной встречи в черные дни разгрома Чикагского восстания.
Джексона, который лишился руки на сьеррской фабрике, — человека, чья судьба так круто изменила мою судьбу, я больше никогда не встречала. Но сведения о нем мне удалось собрать. Джексон не примкнул к социалистам. Озлобленный своими несчастьями и горькой обидой, он сделался анархистом. Не последователем какой-либо теории, нет: в нем пробудился зверь, обуреваемый ненавистью и жаждущий мести. И он достиг своего. Обманув бдительность стражей, в глухую ночь, когда все уже спали, он взорвал дворец Пертонуэйтов вместе со всеми его обитателями, включая и сторожей. В следственной тюрьме он удавился.
Зато весьма утешительным образом сложилась судьба доктора Гаммерфилда и доктора Боллингфорда. Оба продолжали верно служить своим хозяевам и дождались щедрой награды. Каждому из них было отведено в качестве резиденции по великолепному епископскому дворцу, где они продолжают жить и поныне, в ладу с миром и собственной совестью. Оба ярые защитники олигархии. Оба страдают ожирением. Эрнест сказал о них однажды: «Доктор Гаммерфилд отлично приспособил свою метафизику и ныне именем божиим благословляет на царство Железную пяту. Будучи поклонником красивости в богослужении, он благополучно свел на нет то „газообразное позвоночное“, о котором говорил Геккель, и в этом его отличие от доктора Боллингфорда. У того бог — один газ и ни намека на позвоночное».
Питер Донелли, мастер сьеррской фабрики, штрейкбрехер, знакомый мне по делу Джексона, удивил нас всех. В 1918 году в Сан-Франциско мне довелось присутствовать на собрании группы террористов, именовавших себя «Красные из Фриско», самой грозной и беспощадной из всех. Члены этой группы не входили в нашу организацию. Это были фанатики, безумцы. Такие настроения были нам чужды, и мы их не поощряли. Но отношения у нас были вполне добрососедские. В тот вечер меня привело к ним дело большой важности. В доме, где мы собрались, я оказалась единственной женщиной среди двух десятков мужчин, причем все они были в масках. Когда наши переговоры закончились, один из присутствующих вызвался проводить меня к выходу. В темной прихожей он неожиданно остановился, зажег спичку и, поднеся ее к лицу, сбросил маску. Я увидела искаженное от волнения лицо Питера Донелли. Спичка погасла.
— Я только хотел, чтобы вы меня узнали, — сказал он мне в темноте. — Помните инспектора Даллеса?
Я сказала, что помню; передо мной встала лисья физиономия инспектора сьеррской фабрики.
— С ним я свел счеты в первую очередь, — горделиво пояснил Донелли. — Потом уже примкнул к «Красным из Фриско».
— Как же это вы решились? А ваша жена, дети?
— У меня никого не осталось. Нет, не думайте, — прибавил он торопливо. — Это я не за них мщу. Они умерли дома, в постели. Всех унесла болезнь, одного за другим. Вот и развязали мне руки. А мщу я за свою искалеченную жизнь. Когда-то меня знали как штрейкбрехера Донелли. А сегодня — сегодня я номер двадцать седьмой в группе «Красные из Фриско»! Ну пойдемте, я выведу вас отсюда.
Вскоре мне пришлось узнать о нем больше. По-своему Донелли был прав, говоря, что лишился всех своих детей. Однако сын его Тимоти был жив, и отец знать его не хотел, с тех пор как тот поступил в наемные войска[112] Железной пяты.
В группе «Красные из Фриско» было правило, что каждый ее член должен совершить в год не меньше двенадцати террористических актов. Неудача каралась смертью. Невыполнение установленного минимума обязывало провинившегося к самоубийству. Совершение террористических актов не было оставлено на волю случая. Время от времени эти маньяки собирались и выносили массовые смертные приговоры особо ненавистным олигархам или их прислужникам. Распределение казней между членами группы производилось по жребию.
Причиной моего прихода к ним послужило следующее обстоятельство. Один из наших товарищей, который под видом духовного лица много лет работал в тайной полиции Железной пяты, был приговорен к смерти «Красными из Фриско». Как раз в тот вечер разбиралось его дело. Сам он, разумеется, на суде не присутствовал, и судьи не знали, что он наш товарищ. Мне было поручено рассеять это недоразумение. Может показаться странным, что мы узнали о планах этой группы, но все объяснялось очень просто. Один из наших тайных агентов входил в это сообщество. Мы обязаны были знать, что происходит не только среди наших врагов, но и среди друзей, и уж эту группу безумцев нам, во всяком случае, нельзя было выпускать из виду.
Но вернемся к Питеру Донелли и его сыну. Бывший мастер исправно служил своей группе, пока однажды в списке доставшихся ему приговоров не прочел имя Тимоти Донелли. Тут в нем заговорили отцовские чувства. Чтобы спасти сына, он предал своих единомышленников, — правда, не всех, однако человек двенадцать было казнено, и группа оказалась фактически разгромленной. Остальные вынесли предателю смертный приговор.
Тимоти Донелли ненамного пережил отца. «Красные из Фриско» поклялись предать его смерти. Олигархия делала все для спасения своего агента. Его перебрасывали с места на место. Трое террористов поплатились жизнью за попытку до него добраться. Как я уже говорила, их организация состояла из одних мужчин. С отчаяния они обратились к женщине. Это была не кто иная, как Анна Ройлстон. Наш центр запретил ей всякое вмешательство в это дело, но с Анной нелегко было сладить, — дисциплина у нее всегда хромала. Необычайная одаренность и личное обаяние сделали ее популярной, и ей многое прощали. Трудно было подвести ее под общий ранжир и мерить обычной меркой.
Несмотря на категорическое запрещение руководства, она взялась за это дело. Надо сказать, что Анна была пленительной женщиной, пользовавшейся успехом у мужчин. Все наши молодые люди были в нее влюблены, и красота ее привела к нам немало новых членов. Но Анна и думать не хотела о замужестве. Она нежно любила детей, но считала, что это не для нее: она посвятила себя целиком нашему делу, а дети и семья стали бы для нее помехой.
Анне не стоило большого труда повергнуть к своим стопам Тимоти Донелли. Совесть ее при этом оставалась спокойной. Как раз в это время произошла пресловутая нэшивилльская резня: наемники во главе с Донелли перебили восемьсот ткачей. Анне не пришлось самой сводить с ним счеты, она только сдала его с рук на руки членам группы «Фриско» [113]. Это случилось в прошлом году, и с тех пор Анну Ройлстон зовут у нас «Красной девой».
С полковником Ингрэмом и полковником Ван-Гилбертом, моими старыми знакомыми, мне тоже пришлось еще свидеться.
Полковник Ингрэм достиг при олигархах высоких должностей и в конце концов был назначен послом в Германию. Его одинаково презирали рабочие обеих стран. Я встретилась с ним в Берлине, куда приезжала как доверенное лицо Железной пяты по делам международного шпионажа. Полковник оказывал мне всяческое содействие. Кстати, в этой двойной роли мне удалось сделать для революции много полезного.
Полковник Ван-Гилберт получил прозвище «Цепной пес». Он сыграл видную роль в создании нового кодекса законов после Чикагского восстания. Но еще до этого ему был вынесен приговор за его судебную деятельность. Я была среди тех, кто судил и приговорил его к смертной казни. Приговор привела в исполнение все та же Анна Ройлстон.
И еще одна знакомая тень встает передо мной — Джозеф Герд, адвокатишка Джексона. Меньше всего я могла предполагать, что еще раз встречу этого человека. И какая же это была встреча! Спустя два года после Чикагского восстания мы с Эрнестом заехали в Бентхарборское убежище[114], на берегу озера Мичиган, против Чикаго. Войдя, мы застали знакомую картину: судили какого-то шпика. После вынесения смертного приговора его вели к выходу, и мы встретились с ним у порога. Завидев меня, несчастный вырвался из рук своих конвоиров, бросился к моим ногам, судорожно обхватил мои колени и стал молить о пощаде. Когда он поднял вверх искаженное страхом лицо, я узнала Джозефа Герда. Мне немало пришлось видеть в жизни тяжелого, но задыхающиеся вопли этого жалкого существа потрясли меня, как ничто другое. В нем говорила вся исступленная жажда жизни. Это была страшная, душераздирающая сцена. Десятки рук оттаскивали его прочь, но он не отпускал меня. Когда же его наконец подхватили и унесли, отбивающегося и кричащего, я без чувств упала на пол. Тяжко взирать на гибель храбрецов, но нет ужасней зрелища, нежели трус, молящий о пощаде.