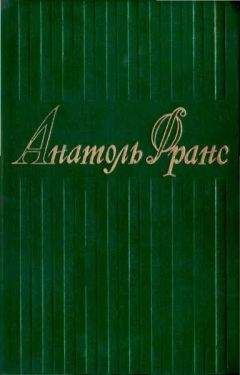Морские шумы, морские запахи волновали меня. Каждый день, каждый час я видел море другим. То оно было гладким и синим, то, покрывалось маленькими спокойными волнами, лазурными с одной стороны, посеребренными — с другой, то казалось закрытым зеленой клеенкой, то тяжелым и мрачным, несущим на своих волнующихся гребнях разъяренных баранов Нерея;[193] вчера оно отступало с улыбкой, сегодня — в смятении бежало вперед. Несмотря на то, что я был ребенком, а может быть, именно потому, что я был всего лишь слабым ребенком, эта коварная изменчивость сильно подорвала любовь и доверие, которые мне внушала природа. Морская фауна — рыбы, моллюски и особенно ракообразные, эти животные, внушавшие мне больший страх, чем чудовища из «Искушений св. Антония»[194], которых я с любопытством разглядывал в окне лавочки г-жи Летор на моей милой набережной Малакэ, — все эти лангусты, осьминоги, морские звезды и крабы знакомили меня со слишком уж необычными формами жизни и с живыми существами, которые, право же, были куда менее дружелюбны, чем мой щенок Кэр, чем пони г-жи Комон, чем ослы Робинзона, чем парижские воробьи, чем даже лев из моей «Библии с картинками» и пары из моего Ноева ковчега. Эти морские чудища преследовали меня во сне и являлись по ночам огромные, в черно-голубых панцирях, колючие, волосатые, вооруженные клешнями, жалами, пилами и не имеющие лица, причем отсутствие лица и было страшнее всего остального.
На следующий же день после моего приезда я был завербован одним большим мальчиком в детскую команду, которая, запасшись лопатами и кирками, соорудила на берегу крепость из песка, водрузила на ней французский флаг и стала защищать ее от морского прибоя. Мы потерпели славное поражение. Я покинул разрушенный форт одним из последних, выполнив свой долг, но приняв поражение с легкостью, не изобличавшей во мне великого полководца.
Однажды я ездил на лодке ловить моллюсков с Жаном Эло, у которого были светло-голубые глаза, смуглое обветренное лицо и до того жесткие руки, что они царапали мне кожу, когда он пожимал мои в знак расположения. Он выезжал в открытое море, чинил сети, конопатил лодку, а в часы досуга сооружал в графине крошечную шхуну с полной оснасткой. Говорил он мало, но все же рассказал мне историю своей жизни, которая сводилась к тому, что все его близкие погибли в море. Прошлой зимой три его брата и отец утонули все вместе на расстоянии одного кабельтова от порта, и в этом событии, как в любом другом, он видел только хорошее. Та малая доля религиозности, которая во мне была, помогла мне открыть в Жане Эло небесную мудрость. В один воскресный вечер мы нашли его посреди дороги мертвецки пьяным. Нам пришлось перешагнуть через него, но и после этого случая он остался для меня существом совершенным. Возможно, что в моем чувстве было что-то от квиетизма[195]. Пусть об этом судят другие — я в то время отнюдь не был богословом, а сейчас и подавно.
Самым любимым моим развлечением была ловля креветок в обществе двух девочек, внушивших мне восторженную, но оказавшуюся недолговечной симпатию. Одна из них, Марианна Ле Геррек, была дочерью дамы из Кинпера, с которой матушка познакомилась на морском купанье. Другая, Кэтрин О'Бриен, была ирландкой. У обеих — белокурые волосы и голубые глаза. Они были очень похожи друг на друга, в чем нет ничего удивительного, ибо
Ведь золотым плодам от яблони единой
Подобны девушки Армора и Эрина.
Инстинктивно сознавая, что они как-то дополняют друг друга, кокетки все время держались вместе и постоянно ходили обнявшись. Грациозно переступая своими тоненькими голыми ножками, потемневшими от солнца и морской воды, они бегали по песку, извиваясь и изгибаясь, словно выполняя фигуры какого-то танца. Кэтрин О'Бриен была красивее, но она неправильно говорила по-французски, чем я возмущался в своем невежестве. Я находил для девочек самые хорошенькие ракушки, но они с презрением их отвергали. Я изо всех сил старался услужить им, но они делали вид, что не замечают моего ухаживания или что им наскучила моя назойливость. Когда я смотрел на них, они отворачивались; когда же я в свою очередь притворялся, что не замечаю их, они привлекали мое внимание каким-нибудь поддразниванием. Я смущался в их присутствии и сразу терял все приготовленные слова. Если же иной раз я грубо разговаривал с ними, то причиной тому были страх, досада или какое-то сложное, противоречивое чувство. Марианна и Кэтрин дружно злословили и подшучивали по адресу маленьких купальщиц — девочек одного возраста с ними. По всем остальным поводам они чаще ссорились, чем сходились во мнениях. Они очень сердились друг на друга за то, что родились в разных странах. Марианна горячо упрекала Кэтрин в том, что она англичанка. Кэтрин, враждебно относившаяся к Англии, возмущалась этим оскорблением, топала ногами, скрипела зубами и кричала, что она ирландка. Но Марианна не видела в этом никакой разницы. Однажды на даче у г-жи О'Бриен их спор о родине кончился дракой. Марианна подошла к нам на берегу с расцарапанными щеками. Увидев ее, мать вскричала:
— Боже милостивый! Что с тобой случилось? Марианна бесхитростно ответила:
— Кэтрин расцарапала мне лицо за то, что я француженка. Тогда я назвала ее дрянной англичанкой и ударила кулаком в нос — пошла кровь.
Г-жа О'Бриен послала нас умыться в комнату Кэтрин. И там мы помирились, потому что на нас обеих был только один тазик.
Каждый день после завтрака старая Мелани надевала в своей каморке под крышей старомодные, начищенные до блеска башмаки, завязывала перед зеркалом ленты белого с кружевной отделкой чепца и накидывала на плечи маленькую черную шаль, перекрещивая концы ее на груди и закалывая булавкой. Она проделывала все это с величайшей тщательностью, ибо всякое искусство трудно, а Мелани, никогда не полагалась на случай в том, что, по ее мнению, способно было придать человеческому существу почтенный и благообразный вид, достойный его божественного происхождения. Удостоверившись наконец, что отвечает всем требованиям своего пола, возраста и положения, она запирала дверь на ключ, спускалась со мною с лестницы, с растерянным видом останавливалась в передней и с воплем взбегала обратно в мансарду, чтобы взять кошелку, которую постоянно забывала по своей старинной привычке. Она ни за что не согласилась бы выйти на улицу без этой бархатной, гранатового цвета кошелки, в которой держала свое вечное вязанье, ножницы, нитки, иголки и откуда извлекла однажды квадратик английского пластыря, когда я порезал себе палец. В этой сумке она хранила также монетку с дырочкой, один из моих молочных зубов и клочок бумаги со своим адресом — для того, говорила она, чтобы ее не свезли в морг, случись ей скоропостижно умереть на улице. Выйдя на набережную, мы сворачивали влево и здоровались с г-жой Пти, торговавшей очками возле особняка Шимэ. Сидя под открытым небом на высоком деревянном стуле возле своего ящика, прямая, неподвижная, с лицом, опаленным солнцем и стужей, она всегда хранила какую-то суровую печаль. Женщины перекидывались несколькими фразами, почти не изменявшимися от встречи к встрече, — потому, должно быть, что речь шла о неизменной сущности природы. Они беседовали о детях, больных коклюшем, крупом или изнурительной лихорадкой, о женщинах, подверженных каким-то таинственным расстройствам, о повседневных жертвах несчастных случаев. Они говорили о вредоносном действии разных времен года на организм человека, о вздорожании съестных припасов, о все возрастающей жадности людей, которые с каждым днем становятся хуже и хуже, и о все учащавшихся преступлениях, приводящих в ужас весь мир. Впоследствии, читая Гесиода[196], я заметил, что торговка очками с набережной Малакэ мыслила и говорила так же, как гномические поэты древней Греции. Однако ее мудрость отнюдь не трогала моего сердца. Она лишь наводила на меня тоску, и я дергал няню за юбку, чтобы уйти подальше. Когда же, выйдя на набережную, мы сворачивали вправо, меня, напротив, так и тянуло остановиться перед гравюрами г-жи Летор, выставленными вдоль дощатого забора, окружавшего пустырь, на котором возвышается ныне Дворец изящных искусств. Эти картинки[197] преисполняли меня восторгом и изумлением. «Прощание в Фонтенебло» и «Сотворение Евы», «Гора, имеющая форму человеческой головы», «Смерть Виргинии» вызывали во мне особое волнение, не вполне остывшее даже и сейчас, после стольких лет. Однако старая Мелани тащила меня вперед, быть может считая, что мне еще рано рассматривать такие гравюры, а быть может, и это вернее, просто ничего в них не понимая. Несомненно одно — что она уделяла им не больше внимания, чем наш щенок Кэр.