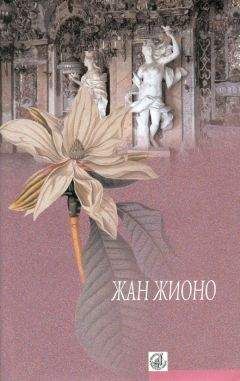Длинная глиняная трубка, теплые шлепанцы и меховая шапка, дабы защитить от холода уши, не мешали Ланглуа быть отпетым ловкачом. Он немного прояснил, что произошло: картина получилась мрачная, но появилась какая-то ясность.
Стол, за которым Берг ел в последний раз, стоял перед окном. Окно выходило не на улицу, а на луга. Ланглуа сел на то место, на котором сидел Берг, когда ел кроличье рагу. Ланглуа сделал несколько жестов, подобных тем, какие, по-видимому, делал Берг, доедая рагу и обмакивая хлеб в соус, отчего в застывшем жире на тарелке остались следы. При этом он все время поглядывал в окно и вдруг спросил: «А куда выходит это окно?» (и спросить, действительно, надо было, потому что, если смотреть в него, то окно выходило, как и все окна в это время года, просто на снег, похожий на вату — то на серую, то на голубоватую, то на черную). Окно выходило на дорогу, ведущую к Аверу. Ланглуа велел принести сапоги. А пока за ними ходили, объяснил, что, по его мнению, когда Берг ел, он увидел, наверное, что-то необычное, что заставило его быстро выскочить из дома.
Обувшись, Ланглуа и один из жандармов пошли в том направлении, в котором должен был двигаться Берг. Ушли не слишком далеко. Дошли до места, где туман и облака начали отгораживать их белой пеленой от других жандармов. Тогда они жестами пригласили остальных подойти поближе. Пока те шли, они продвинулись еще метров на двадцать, то есть из деревни их уже совсем не было видно. Те, кто шел за ними, еще видели их, поскольку были ближе. Вот они наклонились над чем-то. Но это не был Берг. Это было множество следов от лапок ворон. Разгребли снег сантиметров на двадцать (столько нападало за последнюю неделю, с учетом осадки из-за ночных заморозков и снега, наметенного ветром) и нашли большую, всю пропитанную кровью и из-за этого превратившуюся в лед снежную плиту.
Значит, тут Берг и скончался. За занавесом из облаков. А дальше что? Ничего. Кругом — нетронутый снег, только свежие следы Ланглуа, жандарма и всех остальных.
Разослали людей группами на поиски трупа. На этот раз, в отличие от прошлогодних поисков Мари Шазотт, искали не как попало, а методично, по четыре человека в команде во главе с жандармом, по определенным секторам, отмеченным карандашом Ланглуа на карте. Но ничего не нашли. Конечно, было девяносто девять шансов из ста, что снег в оттепель растает и вернет труп. Но ведь оттепель не вернула труп Мари Шазотт. Через две недели Ланглуа вернулся в кафе «У дороги» и вновь надел шлепанцы, меховую шапку и закурил длинную глиняную трубку.
— Надо бы узнать, — сказал он, — почему их убили и унесли? Ведь не для того же, чтобы их ограбить. И это не убийство женщин, поскольку Берг, да и Раванель Жорж… Если бы мы жили среди зулусов, я бы мог подумать, что их захотели съесть… А так я ничего не понимаю.
И опять всем строго-настрого было приказано выучить пароль. Закрыли школу. Велели ни в коем случае не выходить из деревни, даже днем (а дни были темные, серо-голубые тучи стояли низко, и шел снег). В случае крайней необходимости из деревни выходили не в одиночку, а по нескольку человек и в сопровождении двух жандармов. И даже внутри деревни не советовали выходить на улицу по одному: мужчинам рекомендовалось выходить как минимум вдвоем, а женщинам — втроем. На деревенской площади постоянно дежурили два жандарма, а четверо остальных парами совершали обходы селения. Дважды в день Ланглуа надевал сапоги и совершал тщательный осмотр, рыскал по дворам, по птичникам, по всем углам и закоулкам. В три часа пополудни всем, у кого сараи стояли отдельно от жилища, надлежало заготовить дрова и фураж, а в четыре часа наступал комендантский час. Наружные патрули возвращались. Все жандармы вместе обходили дома, один за другим, а потом на площади у будки оставляли часового. Ночью патруль дважды обходил всю деревню. Ланглуа приказал повесить перед каждым домом старый таз и палку. Было приказано: чуть что — стучать палкой по тазу, причем изо всех сил.
— Лучше я двадцать раз вскочу зазря, — говорил Ланглуа, — чем пропустить тот самый раз, когда нужно. Так что не сомневайтесь, если что — колотите. (Ланглуа был очень хорош собой: тонкие усики, красивый нагрудник, красивые ноги, умел говорить и не отлынивал от дела.)
Из моего рассказа вам может показаться, что люди там были трусливые. Ну, естественно: трусливые всегда они, а мы — никогда. Но при этом они вовсе не колотили в тазики. Только раз постучали, когда как-то посреди бела дня исчез с лица земли Каллас Дельфен.
— Ничего не могу понять, — говорил Ланглуа, не переставая ругаться, после недельных поисков и рыскания по лесам, затянутым туманом и облаками. — Ничего не могу поделать, я не Бог всемогущий, а вы — чертовы идиоты. Я сто раз говорил: «Не выходите по одному, даже средь бела дня». Жена вашего Дельфена говорит, он хотел выйти один, присесть «на куче навоза». Я понимаю. Но не спать же он туда пошел. Для этого дела — раз-два и готово!.. Понимаете меня? Не картину же он пошел рисовать. А она решила звонить в кастрюлю, когда уже целый час прошел после того, как вышел ваш Дельфен. Я сказал ей: «Надо было, птичья твоя голова, барабанить через пять минут!» А она говорит: «Так ведь Дельфен за пять минут не успевал, он привык там трубочку выкуривать!» Вот чертов балда! Теперь еще одного нет! На этот раз прямо из рук у нас вырвали. Хорош же я после этого!
Каллас, Дельфен-Жюль! Этого, по крайней мере, мы знаем, каким он был. Он позировал для портрета со своей женой Ансельмией всего за два года до случившегося. На снимке они держат друг друга за мизинец. Портрет сохранился у Онориусов, я его видел. Сходите к ним и увидите. Эти Онориусы, они из Кора, но свояченица Онориуса… в общем, не знаю, все эти двоюродные, троюродные братья и сестры… я, признаться, не разбираюсь в этом. Обычно такие вещи нужно хорошо знать, а тут все как-то неопределенно, мне во всяком случае непонятно. Ясно одно: свояченица, двоюродная сестра, получила наследство от здешнего Калласа. Нет, не так. Подождите, что-то я припоминаю, кажется, все понял. Это не свояченица и не кузина, а тетка Онориуса, сестра его матери взяла фамилию Калласа, который был ее шурином, братом ее мужа и внуком брата Калласа Дельфен-Жюля. Вот так будет правильнее. Я знал, что мне удастся вспомнить. Я проследил родство всех, кто имел к тому отношение, чтобы увидеть, кем они кому приходятся сейчас, в настоящее время. Мы еще поговорим об этом позже. После смерти тетки они договорились, что Онориусы из Кора получают в пользование здешний дом, а мебель в нем — в собственность. В доме они открыли бакалейно-галантерейную лавку, а что касается мебели, то именно там я и нашел висящий на стене фотопортрет Калласа Дельфен-Жюля и Ансельмии.
Ансельмия! Можно понять Ланглуа. Она, должно быть, держалась перед ним так же, как держится на портрете, только одета не по-праздничному, поскольку она стала вдовой. Непонятно, какая у нее была тогда фигура: столько нижних юбок, корсажей, турнюров, поясов стягивали, затягивали, перетягивали ее тело во всех направлениях. Лицо козье, глаза — как у допотопных млекопитающих, рот — как будто пилой разрезанный, а ноздри вывернуты наизнанку. Упрямая, как ослица! Тупая, как ослиная шкура. Рядом с ней — Дельфен-Жюль. Последняя радость у него, с тех пор, как он имел неосторожность зацепиться за мизинец Ансельмии, последняя радость, из-за которой он рисковал жизнью, — пойти выкурить трубочку, сидя «на навозной куче».
Насколько можно разглядеть на желтоватом, выцветшем дагерротипе, была в его облике одна особенность, которой никак не стоит пренебречь. У него было круглое, толстое лицо, густые свисающие усы, подчеркивавшие ширину нижней части головы, тяжелый подбородок и отвислые щеки, опускавшиеся тройной складкой на воротник старинного покроя. Если бы тогда умели делать цветные фотографии, мы бы наверняка смогли удостовериться, что Дельфен был человеком из красной плоти, из добротного мяса, в избытке пропитанного кровью.
Если судить по Раванелю, который сейчас работает шофером на грузовике, то Жорж Раванель отличался тоже именно этими качествами. Мари Шазотт, конечно, не была толстой и краснолицей. Наоборот, она была брюнеткой с очень белой кожей. А когда говорят о брюнеточках, пикантных и искрящихся, какой образ сразу приходит на ум? Правильно, с изюминкой. У Мари Шазотт не было того избытка крови, какой был у Раванеля (за которым охотились) и у Дельфена (которого убили), но зато у нее было качество, зато кровь у нее играла, горела огнем. О вкусе я не говорю. Как вы понимаете, я никогда не пробовал человеческой крови. К тому же этот рассказ вовсе не о человеке, который пил, сосал или ел кровь (в наше время я не стал бы рассказывать о столь банальном случае). Я не хочу говорить о вкусе крови (он, должно быть, просто соленый), но, учитывая темный цвет волос, очень белую кожу и изюминку Мари Шазотт, легко себе представить, что кровь ее была очень красива. Я говорю: красива. То есть, взглянем на эту проблему с позиции художника.