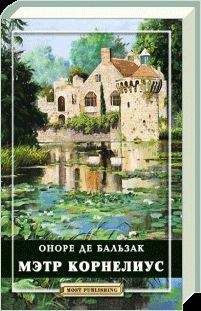Вдруг зазвонили все городские колокола, оповещая, что настало время гасить огни — согласно закону, уже потерявшему силу, но еще соблюдавшемуся в провинции, где все отменяется медленно. Хотя свет еще не был потушен, начальники квартальной стражи приказали протянуть уличные цепи. Многие двери были уже заперты; вдали раздавались шаги запоздавших горожан, идущих толпой со своими лакеями, вооруженными до зубов и несущими большие фонари; вскоре затем город, как бы связанный по рукам и ногам, казалось, уснул, и злоумышленники могли проникнуть в дома только с крыш. В те времена по крышам ходили ночью нередко. Улицы в провинции и даже в Париже были так узки, что воры прыгали с одного дома на другой. Если верить мемуарам той поры, король Карл IX в молодости долго развлекался этим опасным занятием. Боясь явиться к мэтру Корнелиусу слишком поздно, дворянин собирался уже покинуть свое место, чтобы постучать в его дверь, но вдруг, при взгляде на Дурной дом, он с изумлением заметил два существа, которых писатель того времени назвал бы нежитью. Он протер себе глаза, словно не доверяя своему зрению, и тысяча различных чувств пронеслась в его душе при виде того, что было перед ним. По обеим сторонам двери, в рамке, образованной перекладинами своего рода бойниц, виднелись какие-то две физиономии. Сначала он принял эти лица за причудливые маски, высеченные в камне, — так они были морщинисты, угловаты, безобразны, резки, неподвижны, такого они были темнобурого цвета, — но вечер был холодный и светила луна, поэтому он мог различить легкий белый пар дыхания, выходивший из двух лиловатых носов; постепенно он рассмотрел на обоих изможденных лицах, под тенью бровей, по два фаянсово-голубых глаза, горевших в темноте, как у волка, спрятавшегося в глубине листвы, которому чудится лай охотничьей своры. Беспокойный взгляд этих глаз был на него направлен так пристально, что, встретив его, свидетель столь странного зрелища почувствовал себя, как птица, над которой легавая делает стойку. Он ощутил в своей душе лихорадочное волнение, но быстро справился с ним: эти два лица, напряженных и недоверчивых, принадлежали, несомненно, Корнелиусу и его сестре. Тогда дворянин стал осматриваться, как бы разыскивая дом, указанный в записке, которую он вынул из своего кармана, чтобы свериться с ней при свете луны; затем он направился прямо к двери ссудных дел мастера и постучал в нее тремя ударами, отозвавшимися внутри дома так гулко и сильно, как в погребе. Слабый свет упал на крыльцо, и через маленькую, чрезвычайно крепкую решетку посетитель увидел чей-то блестящий глаз.
— Кто там?
— Друг Остерлинка из Брюгге, по его поручению.
— Что вам надобно?
— Войти.
— Ваше имя?
— Филипп Гульнуар.
— Есть у вас рекомендательные письма?
— Вот они.
— Просуньте их в щель ящика.
— Где он?
— Налево.
Филипп Гульнуар опустил письмо в щель железного ящика, прикрепленного под одной из бойниц.
«Чорт побери! — подумал он. — Сразу видно, что король прибыл в наши места, потому что здесь такие же порядки, какие он завел в Плесси». Он прождал на улице с четверть часа, а тогда услышал, как Корнелиус сказал своей сестре:
— Закрой капкан у двери.
У входа раздалось бряцанье цепей и грохот железа. Филипп услышал, как отодвигаются засовы и гремят замки; наконец, маленькая дверца, обитая железом, приоткрылась ровно настолько, чтобы в дом едва можно было пройти человеку, и то лишь худощавому. С риском порвать свою одежду, Филипп кое-как протиснулся в Дурной дом. Беззубая старая дева, у которой лицо было похоже на скрипичную деку, а брови — на ручки котла, нос же и крючковатый подбородок так близко сходились, что между ними не поместился бы и лесной орех, — старая дева со впалыми висками, бледная, худосочная, кожа да кости, молча повела мнимого чужестранца в залу на нижнем этаже, меж тем как Корнелиус осмотрительно держался позади.
— Садитесь там, — сказала она Филиппу, указывая ему скамью о трех ножках, стоявшую около большого, украшенного резьбою камина, в чистом очаге которого не было и следов огня. С другой стороны стоял стол орехового дерева, на витых ножках, а на нем лежало в тарелке яйцо и с десяток ломтиков хлеба, твердых и сухих, старательно нарезанных чьей-то скаредной рукой. Две скамейки, на одну из которых села старуха, были придвинуты к столу, из чего можно было понять, что приход Филиппа застал этих скряг за ужином. Корнелиус пошел притворить два железных ставня, чтобы закрыть, вероятно, те потайные окошечки, через которые они с сестрой так долго рассматривали, что творится на улице, и вернулся на свое место. Мнимый Филипп Гульнуар увидел тогда, как брат и сестра по очереди степенно обмакивали свои ломтики хлеба в яйцо, с той же точностью, с какою солдаты через равные промежутки времени погружают в артельный котел свою ложку, — причем яйцо расходовалось с большой осмотрительностью, чтобы его хватило на все ломтики. Этот процесс совершался в молчании. Во время еды Корнелиус с такой обстоятельностью и с таким вниманием разглядывал мнимого новичка, как будто взвешивал старинные золотые монеты. Филипп испытывал такое чувство, словно ледяной плащ окутал ему плечи; ему до смерти хотелось оглядеться вокруг, но, с тонкой расчетливостью, которой требуют любовные приключения, он остерегался бросить даже мимолетный взгляд на стены, понимая, что если Корнелиус перехватит этот взгляд, то не оставит любопытного юношу в своем доме. Итак, он довольствовался тем, что скромно устремлял глаза то на яйцо, то на старую деву, а иногда смотрел на своего будущего хозяина.
Казначей Людовика XI был похож на этого монарха и даже перенял от него некоторые жесты, как это бывает, когда люди живут вместе и чем-либо близки друг другу. Слегка поднимая густые брови, которые обычно почти закрывали его глаза, фламандец бросал ясный взгляд, проницательный и твердый, как у людей, живущих в молчании, привыкших к постоянной сосредоточенности. Тонкие губы, собранные оборочкой, придавали ему невероятно лукавый вид. В нижней части лица было что-то лисье; но высокий крутой лоб, изрезанный морщинами, казалось, свидетельствовал о больших достоинствах, о душевном благородстве, которое опыт отучил от взлетов, а жестокие уроки жизни, вероятно, заставили запрятаться в самые сокровенные тайники этого загадочного существа. То, конечно, не был простой скряга, и его страсть, должно быть, скрывала в себе глубокие наслаждения и никому не поверяемые мысли.
— По какому курсу ходят венецианские цехины? — внезапно спросил он своего будущего ученика.
— По три четверти в Брюгге, по одному в Генте.
— Какой фрахт на Шельде?
— Три су парижского чекана.
— Нет ли чего нового в Генте?
— Разорился брат Лиевена Герда.
— Вот как!
Издав это восклицание, старик прикрыл колени полой своей одежды — он был облечен в просторную судейскую мантию из черного бархата, спереди открытую, с пышными рукавами и без воротника. Одни лохмотья остались от роскошной переливчатой материи некогда великолепного костюма, сохранившегося от тех времен, когда мэтр Корнелиус был председателем трибунала по имущественным делам — должность, исполнение которой принесло ему вражду герцога Бургундского. Филипп не чувствовал холода, он вспотел под своей сермяжной сбруей, с дрожью в сердце ожидая новых вопросов. Благодаря своей хорошей памяти он твердо усвоил краткие наставления, данные ему накануне одним евреем, который был ему обязан жизнью, человеком, отлично знакомым с повадками и привычками Корнелиуса, и до сих пор этого было достаточно. Но дворянин, в пылу своих замыслов ни в чем прежде не сомневавшийся, уже начинал видеть все трудности смелой затеи. Торжественная серьезность и хладнокровие страшного фламандца подействовали на него. К тому же он чувствовал себя под замком и ясно понимал, что главный превотальный судья всегда готов предоставить виселицу в распоряжение мэтра Корнелиуса.
— Вы ужинали? — спросил казначей, но таким тоном, в котором звучало: «Не вздумайте ужинать!»
Несмотря на этот выразительный оттенок в голосе брата, старая дева встревожилась; она посмотрела на молодого человека, словно измеряя взглядом емкость его желудка, и, чтобы что-нибудь сказать, произнесла с притворной улыбкой:
— Ну, и черные же у вас волосы — чернее, чем хвост у чорта!
— Я поужинал, — ответил Корнелиусу дворянин.
— Ладно! Приходите ко мне завтра, — сказал скряга — Давно уже я привык обходиться без помощи ученика. Впрочем, утро вечера мудренее.
— Ах, клянусь святым Бавоном! Милостивый государь, я — фламандец, я никого здесь не знаю, уличные цепи уже натянуты, меня посадят в тюрьму. Но, разумеется, добавил он; спохватившись, что проявляет слишком большую настойчивость, — если вам угодно, я уйду.