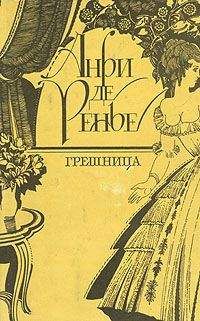Говорил он также для собственного оправдания, что так как любовь есть потребность, как и всякая другая, то служанки, назначение которых в том и состоит, чтобы следить за потребностями, которые мы можем иметь, отлично могут удовлетворять и эту. Он добавлял, что, в силу своего ремесла, они как раз к этому наиболее приспособлены. Усталость, сопряженная с ним, требует выносливости и услужливости. Так что всегда есть возможность среди прислуживающих девиц встретить крепких, которые в конце концов будут очень рады, окончив работу, которой они добывают себе пропитание, найти другую для разнообразия. Обратите внимание еще и на то, что, по большей части простушки, они отлично подходят к подобному занятию, делая его здоровым и приятным своей непосредственностью, которая существует только у простонародья, откуда и они происходят. Что за важность, если у них деревенский говор, раз дело идет не о речах или комплиментах, а о работе всего тела, приводящей к обоюдному наслаждению, место действия для которого безразлично и которое можно вкушать с одинаковым успехом на холстине сенника и на самом тонком, отлично выстиранном белье!
Эти мудрые соображения не позволяли г-ну Флоро де Беркайэ направлять свое желание на более высокую цель. Он выставлял на вид, что дамы, пожелавшие наставить рога мужьям, легко могли бы жаловаться на его козлиный запах, тем более, нужно сознаться, — заканчивал он шутливо, — что подобного рода упражнения усиливают в человеке его естественные выделения и это может обеспокоить жеманниц, меж тем как добрые девушки, привыкшие убирать постель и выносить помои, не будут на это обращать внимание.
Двойное это занятие — юбками и кабачком — поддерживало обычно г-на Флоро де Беркайэ в довольно хорошем настроении, особенно в те дни, когда ему за столом легко удавалось найти образ для сонета, острую мысль для эпиграммы, новые фигуры для балета. Тем не менее, в известное время года он делался печален и впадал в странное расслабление. Чернила сохли в его чернильнице, трубка гасла. Когда его собутыльники по пятницам затевали яичницу с салом, приправляя ее отборным богохульством и изысканным сквернословием, он оставался молчаливым в своем углу, не удостаивая бутылки ни одним взглядом, не делая попытки пощупать служанку. В это состояние он приходил при первых весенних днях, как только от солнца подсохнет парижская грязь, зазеленеют деревья на Кур-ла-Рен или на Королевской площади и наново зацветут беседочки в загородных кабачках. С началом всего этого г-н Флоро де Беркайэ мрачнел все более и более, пока не наступал день, когда он уже не мог дольше выдерживать. Он спускался из своей берлоги, заперев дверь и положив ключ под сенник, чтобы отправиться за город, — потому что ежегодно за город убегал в это время г-н Флоро де Беркайэ.
Для этой прогулки г-н де Беркайэ, не заботящийся вообще о своем туалете, вынимал из шкафа что там было лучшего. Он надевал самую тонкую рубашку, самое чистое платье, на голову самый густой парик. Одевшись таким образом, он с зарей отправлялся в путь. Только что он проходил заставы и выходил из Парижа, как принимался напевать на самый нелепый мотив свои сочинения, состоящие из набора бессвязных слов, но которые заставляли его смеяться всю дорогу. Г-н де Беркайэ развлекался по пути, выделывал тысячи дурачеств, так что многие оборачивались посмотреть на прохожего, который то прыгал, то скакал, то шел размеренным шагом. Иногда г-н де Беркайэ останавливался и долго лежал во рву или на луговой траве, потом внезапно перелезал через изгородь, обнимал ствол дерева, пускал блинчики по болотным лужам. Так что ему нужно было много дней употребить, чтобы вдоль Сены дойти до Фонтенебло и добраться до хижины, где была харчевня, называемая Вальван. В какое бы время дня он туда ни приходил, он прежде всего требовал постель и кувшин с вином. Опорожнив его, он ложился и спал, покуда не просыпался сам. Если было темно, он снова засыпал до следующей зари.
Встав с петухами, г-н Флоро де Беркайэ тщательно одевался и спускался с лестницы. Сена, вся серебряная, протекала вдоль леса, отражавшегося отчасти в воде. Г-н де Беркайэ кликал перевозчика. Тяжелая лодка пересекала течение наискось и приставала к противоположному берегу. Перевозчик с удивлением смотрел, как господин, сидевший спокойно на скамейке, соскочив на берег, бросается плашмя на землю, словно желая ее поцеловать, и, поднявшись, отвешивает низкий поклон деревьям, после чего скрывается под их кров. Таким способом г-н де Беркайэ выражал свое почтение природе и объединялся с безмолвием, чтобы освежить ощущение нашей человеческой сущности.
Г-н де Беркайэ не думал, чтобы наша душа отличалась от нашего тела и имела более длительное существование. Совокупность наших атомов — только одна из случайностей обширной вселенной. Мы в достаточной мере подобны окружающим нас вещам, как бы мы себя ни дурачили на этот счет. Это именно и объяснял г-н Флоро де Беркайэ г-ну де Брео, сидящему насупротив него за одним столом в маленьком трактирчике, где они только что встретились и впервые вступили в разговор.
— Не странно ли, сударь, — говорил г-н Флоро де Беркайэ, вытирая локти и коленки, зазеленные травой, по которой он целый день валялся, — всю жизнь рассматривать природу только в тех формах, которые наложил на нее человек, и в том виде, который он ей придал, когда у нее столько других образов, которыми она обязана самой себе? Конечно, улицы, экипажи, дома — зрелище приятное, но оно нас заставляет считать человека не за то, что он есть на самом деле. Не заключается ли в этом известная опасность, и не находимся ли мы в странном заблуждении, принимая состояние, в котором человек живет, за наиболее ему свойственное и за точный показатель его способностей? Оно наталкивает нас на мысль, что в человеке кроме того, что он смертен и разделяет общую судьбу существ, есть еще нечто бессмертное, откуда проистекает, сударь, гордость, от которой ему следует освободиться. Многие светлые умы, к счастью, сумели стать выше этого предрассудка и покорно признали, что в нас нет ничего, чего бы не было в окружающем, и что, по правде сказать, мы — только разновидность материи. Надеюсь, общество таких господ доставило бы вам удовольствие. Ваши рассуждения доказали мне, что вы наш единомышленник в главнейшем пункте, и я очень рад этому, сударь, потому что ваша наружность с первого же взгляда внушила мне невыразимое уважение.
Г-н де Брео поблагодарил г-на де Беркайэ за прекрасные слова и поднял стакан за его здоровье. По мере того как г-н де Беркайэ наполнял и осушал свой стакан, он все более удалялся от философических тем, на которые вначале он беседовал с г-ном де Брео, и перешел на предметы более частного характера, вроде качества вин, подаваемых в различных кабачках Парижа, и достоинства прислуживающих девиц. Г-н де Брео мало-помалу убедился, что, если он и согласен с новым своим другом относительно происхождения и назначения человечества, то совершенно расходится во взглядах на женщин и в манере держаться с ними, даже если оба партнера имеют честь принадлежать к людям, не верующим в Бога.
По правде сказать, г-н де Брео попросту думал, что даже наилучшим образом обоснованное безбожие не обязывает людей есть прожорливо, упиваться сверх меры, курить трубку, сквернословя и посылая по адресу небес дикие вызовы, и спать с первой встречной, что с одинаковым успехом могут делать и святоши и вольнодумцы. Г-н де Брео из этого делал вывод, что самое определенное безбожие может обходиться без показной стороны и трескотни и соблюдать во всех своих проявлениях сдержанность, что более подобает порядочному человеку, чем слишком открыто заявлять, что идешь вразрез с общепринятыми мнениями. Он высказал это г-ну де Беркайэ.
— Вы правы, — ответил тот, — и если бы вам удалось убедить в этом наших вольнодумцев, вы оказали бы большую услугу нашей партии, которая хороша тем, что учит нас жить сообразно природе, в то же время отводит от суеверий, отклоняет от самонадеянного мнения, будто человек занимает в мире какое-то особенное место, исключительность которого привлекает к нему особливое внимание Создателя. В этой тщеславной суетности святош и заключается причина моего нерасположения к ним. Они были бы недовольны, если бы не думали, что Бог интересуется непосредственно их особами и их поведением руководствуется в своих поступках. Ваше поведение, сударь, мне представляется удивительно мудрым, и, не надеясь когда-нибудь быть в состоянии подражать ему, я был бы счастлив узнать, как вы достигли этих принципов. Расскажите мне, сударь, пока я еще в состоянии вас слушать, потому что от этого винца у меня начинает шуметь в голове, и я боюсь, что через минуту я не так, как теперь, буду способен выслушивать, на чем основаны ваши принципы и кто вы такой.
— Скажу вам прежде всего, сударь, — начал г-н де Брео, — что я дворянин. Если я говорю о своем сословии, то не смотрите на это, как на признак тщеславия, а скорее как на результат скромности, которой я пожелал бы всем, кто, как я, принадлежит к хорошим, но незнаменитым семьям. Если бы она была знаменита, мне достаточно было бы назвать свою фамилию, чтобы вы уже были убеждены в моих достоинствах, и мне не приходилось бы прилагать стараний рассеять ваше вполне законное незнание моей фамилии. Мы зовемся де Брео; это представляет собою кое-что в нашей провинции и не говорит почти ничего тому, кто не из Берри. Там родился я, там же со мною и во мне родились те принципы, которйе снискали ваше одобрение. Нужно полагать, действительно, что мысль о человеческой ничтожности свойственна по природе людям, так как достаточно мне было жить, чтобы мало-помалу убедиться в ее справедливости. Я видел, как постепенно укреплялась ее незаметная сила, покуда в один прекрасный день не стало мне ясно, что нужно решиться быть тем, чем создала нас природа, то есть чем-то преходящим и тленным. Конечно, и мне говорили, как всем, что в нас находится нечто, что нас переживет, но, признаться, такого рода бессмертие всегда мне было не по вкусу и ничего мне не говорило. Если бы во власти Бога было заставить нас пережить нашу тленную оболочку, ему было бы так же легко сохранять нас в прежнем виде, вместо того чтобы давать нам второе существование за счет первого. Короче сказать, я ограничился убеждением, что живу я только однажды, и на том стою. Это чувство отнюдь не сделало меня печальным, наоборот, вложило в меня сильное желание быть счастливым и как можно лучше воспользоваться временем, пока длится это вполне земное и только земное существование. Я люблю наслаждения, я вкусил некоторые из них. Одно из самых моих любимых — играть на лютне. Я умею с приятностью сопровождать голос, если он не безобразен. Нахожу я исключительное наслаждение и в сопряжении своего тела с телом женщины. В подобных занятиях провел я годы моей жизни вплоть до двадцать шестого года, который мне теперь идет.