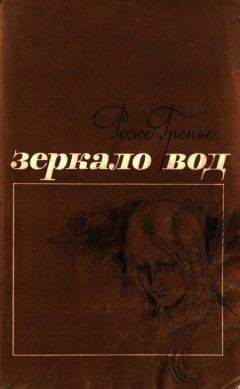Мало-помалу всеобщее равнодушие одержало верх над его мужеством, над его терпением, над его здоровьем. Тогда он ушел в себя, сочинил для собственного употребления устав трапписта. Его убежище — это огород, который у него, благодаря заботам Провидения, большой, орошенный водой и плодородный. По десять часов в день перекапывает он землю. И так как доход от треб незначителен, то разводит дыни, которые Лутр скупает у него по низкой цене: это дает возможность жить и даже раздавать немного милостыни.
Он без боя сдал дом, церковь, а, наконец, и приход крикливому деспотизму сестры. В храме можно застать его только в часы богослужений. Всякое воскресенье, за литургией, как бы мало ни было молящихся, он добросовестно поднимается на кафедру и, напрягая все свое красноречие, говорит, обращаясь к нескольким женщинам и старым девам, оставшимся верными мадемуазель Верн и Богу.
В доме священника с треском отворяется окно.
— Иди скорей! — кричит мадемуазель Верн.
Священник всплывает над кустами смородины. Он ставит корзину наземь и наскоро застегивает сутану.
У плиты, обрушившись на стул, рыдает Селестина.
— Я дала зарок раньше ее!
Мадемуазель Верн, всегда готовая исследовать сердца и испытывать совести, объясняет и комментирует события уверенной скороговоркой.
— Не расстраивайтесь так, моя бедная, — говорит тогда священник, — я имею полную власть освободить вас от зарока. Вы принесете церкви иной дар: святую Жанну д'Арк, например… И ваш долг будет исполнен.
Но Селестина заламывает руки и плачет еще пуще. Мысль о Жанне д'Арк приводит ее в ужас.
— Никогда святой Антоний этого не поймет. В наказание он во всех делах нашлет мне неудачу!
Аббат владеет собой. Но тик более чем когда-либо искажает его лицо. Будучи не в силах устоять на месте, он описывает круги.
Мадемуазель Верн набрасывается на него:
— Это ты виноват! Зачем ты позволил Керолям жертвовать статую? Ступай к ним! Изволь с ними договориться!
Мадам Кероль шьет на кухне, сидя рядом с дочерью своей Люси. В комнате полно мух и пахнет капустой.
Мадам Кероль предлагает священнику стул.
— Садитесь, пожалуйста.
А сама думает: «Уж не тетка ли Дэнь его подослала?»
На всякий случай выпроваживает Люси в огород нарвать салату.
Священник садится, поднимается и в конечном итоге остается в стоячем положении. Переминаясь с ноги на ногу, фыркая и встряхивая плечами, как вылезшая из воды собака, он рассказывает, что привело его к ним.
— Вы женщина добрая, мадам Кероль. Я взываю к вашему милосердию. Бедная девушка считает себя обреченной на вечную гибель: не спит, того и гляди, заболеет. Простаков надо судить по их намерениям…
Мадам Кероль покраснела и потупилась, прижав руки к груди.
— Конечно, если бы знать, не надо было бы и тратиться… Но что сделано, то сделано. Цоколь уж вмазан, и на дощечке проставлено наше имя, как жертвователей! — Голос ее становится все резче и резче: — Раз уж заплачено, так хочешь, по крайней мере, чтобы прок от этого был, не так, что ли?
— Да ведь она же предлагает издержки взять на себя!
— Все?
— Все.
На сей раз мадам Кероль впадает в сомнения.
— Надо хозяина позвать.
Кероль, дремавший еще в кровати, спускается, застегивая подтяжки. Это грушевидный толстяк; голова — маленькая и острая; подбородок словно растаял в шее; шея растеклась по плечам, а туловище ширится книзу до самого днища штанов. Если бы он сел на пол, его никак было бы не опрокинуть.
Узнав, в чем дело, он обменивается с женой быстрым взглядом.
— Я такой человек, что готов пойти на уступки, если хозяйка согласна. Только дорого это: хотелось все сделать хорошенько. Наша статуя — это статуя в двести франков. Могу показать каталог. Упаковка и мелкие непредвиденные расходы — скажем, все вместе — двести двадцать только наличными. И не беспокойтесь насчет дощечки на цоколе. Это я уж устрою как-нибудь при помощи замазки — gratis pro Deo![1]
Аббат Верн сотрясается от удовольствия. Вот и улажена эта дурацкая история.
Кероль про себя подсчитывает. Статуя, считая и цоколь с гравировкой, обошлась ему ровно в двадцать су. Мадам Кероль купила — довольно, впрочем, неосмотрительно — билет лотереи «Святого Младенчества» и выиграла право приобрести на двести франков товара на фабрике предметов церковной утвари. Доставка была даровая; но пришлось выставить стакан красного вина возчику. В конечном счете утро пропало не даром.
А он еще не знает о самой главной своей прибыли: скажи он «нет», его навес запылал бы ночью.
Дым поднимается между домами, за церковью. Это у Пульода, у тележника.
Пульод обтягивает колеса только раз в три месяца, когда наберется довольно заказов, чтобы стоило этим заняться; и всякий раз это целое зрелище для соседей. Хоть у Жуаньо нет сегодня ни писем, ни газет для Пульодов, он все же поддается искушению свернуть в переулок и постоять минутку в толпе любопытных. На дворе у тележника большая кутерьма. Дядя Пульод, с сыном Никола и с учеником Жозефом в качестве помощников, бушует и отдувается вокруг огромной кучи дров, которая пылает посреди насыпной площадки, как некий древний костер.
Тележник — старый человек атлетического сложения. Ошейник седой бороды, обрамляющий его прокопченное лицо, придаст ему вид морского волка. Никто никогда не видел его улыбки. Жена после пятнадцати лет рабства покинула его: он устроил ей в самом деле слишком уж суровое существование: она умерла от истощения. Он живет с сыном Никола, которому противно его ремесло и который хотел бы пойти учиться по письменной части; но так и не решился ни разу заговорить об этом со стариком. На Пульода во всей округе смотрят косо: говорят, что нет в нем дружелюбия. Это не мешает его тележной мастерской пользоваться известностью даже в Вильгранде.
Со вчерашнего дня приступили к работе. На подстилку из сухой соломы и хвороста Пульод положил десяток железных шин, одну на другую; потом заполнил внутреннее их пространство старыми выкорчеванными пнями, а снаружи воздвиг тройную круговую изгородь из поленьев, так что все железо скрылось под громадной, совершенно круглой кучей примыкающих к нему дров. Нынче утром оставалось только вылить на них полбидона керосина и поджечь.
Дрова трещат; черный дым расплывается длинными султанами, которые кружат по двору, потом развертываются в жарком воздухе и долго парят над крышами.
Когда подходит Жуаньо, прогоревшие поленья местами уж начинают осыпаться, и показываются шины, наваленные на куче красных углей. Это и есть тот момент, которого поджидает Пульод, чтобы приняться за работу. Сумасбродный и самовластный, он все делает сам: мальчики только прислуживают ему и терпят его грубости. Он кричит:
— Подавайте!
Никола и Жозеф бегут за первым колесом, приготовленным для оковки. Они докатывают его до самого костра, кладут на большую железную звезду и закрепляют на ней колком, проходящим через ступицу. Тогда все трое мужчин вооружаются длинными стальными прутьями с крючками на конце и становятся на одинаковом расстоянии вокруг огня.
— Раз, два и три! — командует старик.
Общими усилиями они вытаскивают из самого пекла раскаленную шину, подносят ее к колесу, которое почти одного с ней диаметра, и накладывают ее на него точно, край на край. При соприкосновении с красным железом деревянный обод мгновенно вспыхивает.
— Живо! — кричит Пульод.
Две полных лохани с водой стоят наготове, под рукой. При помощи леек, которые окунают в лохани, Никола и Жозеф спешат залить загоревшееся колесо. Ослепляющий пар поднимается со свистом и заставляет любопытных податься назад. Огонь, погашенный с одной стороны, занимается с другой. Лейки наполняются и опоражниваются, вода течет потоками, мальчики топчутся в грязи, борются с пламенем, которое то замирает, то возрождается на окружности колеса. А Пульод длинной колотушкой бьет по шине, пока она плотно не охватывает обод. И скоро в белом тумане, где погасли в конце концов все огни, металлический обруч, сжимаясь при охлаждении, неразрывно смыкается с деревом. Первое колесо оковано.
— Гоп! — кричит старик.
Мальчики осторожно поднимают колесо, а Пульод, просунув прут во втулку, катит его к перекладине на козлах, расположенной над желобом с водой. Там Пульод подвешивает и выравнивает колесо так, чтобы оно могло подольше самостоятельно вертеться и окончательно остыть. Мало-помалу потрескивание затихает, и колесо останавливается, безмолвно купаясь в воде.
Маленький Жозеф уж ног под собой не чувствует. Глаза лихорадочно блестят от усталости. Синие холщовые штаны промокли до колен, и липнет к спине пропотевшая рубаха.
— Следующее! — кричит тележник.
— Катайте, ребята! — произносит Жуаньо и свистит своих спаниелей.