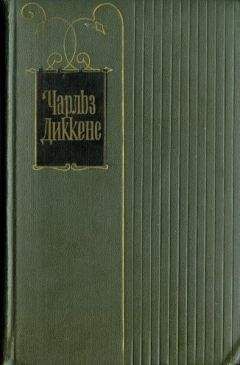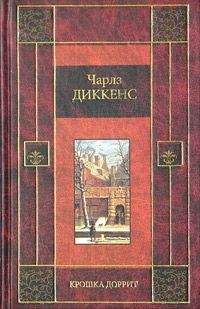– Но самое имя?..
– Ах ты господи! – вскричал мистер Миглз. – Об имени-то я и позабыл. Видите ли, в Воспитательном она звалась Гарриэт Бидл – имя, разумеется, случайное. Мы и сделали из Гарриэт Гэтти, а из Гэтти – Тэтти. Понимаете, как люди практические, мы решили, что ей приятнее будет отзываться на такое славное веселенькое имя, и что это даже может способствовать смягчению ее нрава. Ну, а уж о фамилии Бидл понятно не могло быть и речи.[8] Зло с которым нельзя мириться ни при каких условиях, воплощение чиновничьей тупости и наглости, допотопная фигура, чей сюртук, жилет и длинная трость символизируют упрямство, с которым мы, англичане, держимся за бессмыслицу, когда все уже поняли, что это бессмыслица – вот что такое бидл. Давно вы не встречали живого бидла?
– Давно – ведь я двадцать с лишком лет провел в Китае.
– Ну так мой вам совет, – с большим воодушевлением сказал мистер Миглз, приставив указательный палец к груди собеседника, – старайтесь не встречать и впредь. Если мне в воскресный день попадается на улице процессия приютских ребятишек, во главе которой шествует бидл в полном параде, я тотчас же спешу свернуть с дороги – уж очень хочется накостылять ему шею. Одним словом, о фамилии Бидл не могло быть и речи, и, вспомнив, что основателем заведения для бедных найденышей был некий Корэм, мы решили присвоить маленькой служанке Бэби фамилию этого добросердечного джентльмена. Так ее и стали звать – то Тэтти, то Корэм, в конце же концов оба имени слились в одно, и теперь уж ее всегда Зовут Тэттикорэм.
Они еще раз молча прошлись взад и вперед, а затем постояли немного у парапета, глядя на море.
– Насколько мне известно, – вернулся к разговору собеседник мистера Миглза, когда они вновь зашагали по террасе, – ваша дочь – единственный ваш ребенок. Позвольте спросить вас – не сочтите это нескромным любопытством, мой вопрос вызван лишь тем, что я испытал много удовольствия от вашего общества и, опасаясь, что в сутолоке этого мира нам, может быть, и не придется продлить знакомство, желал бы сохранить возможно более полное представление о вас и о вашей семье – позвольте спросить, правильно ли я заключил из слов вашей достойной супруги, что у вас были еще дети?
– Нет, нет, – сказал мистер Миглз. – Это не совсем точно. Не дети, а ребенок.
– Простите, я, кажется, невзначай затронул больное место.
– Ничего, не смущайтесь, – сказал мистер Миглз. – Хоть это и грустное воспоминание, но не тяжелое. Оно заставляет меня на мгновенье притихнуть, однако не причиняет мне боли. У Бэби была сестра-близнец; она умерла, когда ее глазки, – точно такие же, как у Бэби, – только-только стали виднеться над столом, если она привставала, на цыпочки.
– О-о!
– А поскольку мы с миссис Миглз люди практические, то мало-помалу у нас сложилась привычка, которая вам может быть покажется странной – а может быть и нет. Бэби и ее сестра были настолько похожи друг на друга, настолько словно бы составляли одно целое, что у нас в мыслях они навсегда остались нераздельными. Напрасно было бы напоминать нам о том, что наша вторая дочка умерла совсем малюткой. Для нас она росла и развивалась наравне с той, которую богу угодно было сохранить нам и с которой мы всегда неразлучны. Бэби становилась старше, и сестра ее тоже становилась старше; Бэби умнела и хорошела, и сестра ее умнела и хорошела вместе с нею. Я убежден, что если завтра мне суждено перейти в лучший мир, я найду там дочку, в точности такую же, как Бэби сейчас, и разуверить меня в этом так же трудно, как в том, что живая Бэби здесь, рядом со мною.
– Я понимаю вас, – тихо молвил его слушатель.
– Что до самой Бэби, – продолжал мистер Миглз, – то внезапная потеря сестры, бывшей ее живым портретом и подружкою всех ее игр, а с другой стороны, преждевременное приобщение к великому таинству, которое всех нас ожидает, но которое не так уж часто поражает нежное детское воображение, – все это не могло, разумеется, пройти для нее бесследно. К тому же мы с ее матерью поженились, будучи уже в годах, и сколько бы мы ни старались приноровиться к возрасту Бэби, ей всегда приходилось вести при нас чересчур, так сказать, взрослое существование. Случалось ей прихворнуть, и врачи не раз говорили нам, что для нее весьма полезна как можно более частая перемена климата и воздуха, особенно в нынешнюю пору ее жизни – а также советовали заботиться о том, чтобы она не скучала. Вот мы и колесим по всему свету, благо я уже теперь не должен с утра до вечера стоять за конторкой в банке (хотя молодые мои годы прошли в бедности, иначе, смею вас уверить, я женился бы на миссис Миглз гораздо раньше). По этой причине вы имели возможность встретить нас в Египте, где мы исправно обозревали пирамиды, сфинксов, пустыню и все, что еще полагается; и по этой же причине Тэттикорэм суждено со временем превзойти по части путешествий самого капитана Кука.[9]
– Я вам от души признателен за доверие, которое вы мне оказали своим рассказом, – сказал его слушатель.
– Не стоит благодарности, – возразил мистер Миглз, – мне это и самому было приятно. А теперь, мистер Кленнэм, позвольте в свою очередь задать вам вопрос: решили вы, наконец, куда направитесь отсюда?
– Правду сказать, нет. Такому перекати-поле, как я, все равно куда ни понесет его ветер.
– Не взыщите за непрошеное вмешательство, но почему бы вам не поехать прямо в Лондон, – сказал мистер Миглз тоном доверенного советчика.
– Возможно, так оно и случится.
– Вы говорите, словно это не зависит от вашей воли.
– А у меня нет воли – точней сказать, – он слегка покраснел, – нет того, что могло бы сейчас определять мои поступки. Я с детства привык чувствовать над собою деспотическую власть; получил воспитание, которое не сделало меня гибким, а попросту сломило; потом меня заковали в цепи долга, который был навязан мне извне и который навсегда остался мне чуждым; в двадцать лет, прежде чем я получил право располагать собой, меня услали на другой конец света и держали там в изгнании вплоть до кончины моего отца, что произошло год тому назад; всю жизнь я тянул лямку, которая мне была ненавистна – так чего же от меня ждать теперь, когда молодость уже осталась позади? Воля, надежда, цель… Все эти огни погасли для меня раньше, нежели я научился произносить их названия.
– Так зажгите их снова, – сказал мистер Миглз.
– А! Легко сказать! Мои родители, мистер Миглз, были очень суровые люди. Отец и мать, чьим единственным сыном я был, привыкли все взвешивать, измерять и оценивать на деньги; и то, что нельзя было взвесить, измерить и оценить, для них попросту не существовало. Таких людей принято именовать благочестивыми, но мрачная религия, ими исповедуемая, сводится, в сущности, к угрюмой сделке с небом: они приносят в жертву вкусы и склонности, которыми никогда не обладали, и рассчитывают получить взамен гарантию сохранности своих земных благ. Строгие лица, железные правила, наказания в этом мире и угроза возмездия в будущем, ничего светлого, радостного вокруг и щемящая пустота внутри – вот мое детство, если можно злоупотребить этим словом для обозначения столь унылого начала жизни.
– Неужто в самом деле? – отозвался мистер Миглз, чье воображение весьма тягостно поразила развернутая перед ним картина. – Начало неутешительное, что и говорить. Но полно об этом. Будьте человеком практическим, мистер Кленнэм, и постарайтесь воспользоваться всем тем хорошим, что еще у вас впереди.
– Если бы те, кого принято именовать людьми практическими, соответствовали вашему представлению о них…
– А они и соответствуют, – сказал мистер Миглз.
– Вы в этом уверены?
– А разве может быть иначе? – возразил мистер Миглз в некотором раздумье. – Люди практические – это люди практические, и мы с миссис Миглз именно таковы.
– В таком случае, – сказал Кленнэм с обычной своей печальной улыбкой, – мое будущее обещает сложиться легче и приятнее, чем я мог бы ожидать. Но кончим этот разговор. Вон и катер подходит.
Катер был битком набит теми самыми треуголками, к которым, в силу национального предубеждения, столь неприязненно относился мистер Миглз. Обладатели голов, на которых сидели упомянутые треуголки, сошли на берег и по крутым ступеням поднялись к бараку, где уже толпились истомившиеся ожиданием пленники. Началось хлопотливое выправление бумаг, выкликались имена, скрипели перья, стучали печати, шелестели марки, лились чернила, шуршал песок, и в качестве плода всей этой деятельности являлось на свет нечто размазанное, шероховатое и неудобочитаемое. В конце концов положенные формальности были исполнены и путешественников отпустили на все четыре стороны.
В своем наслаждении вновь обретенной свободой они не обращали внимания на сверкающий зной. Разноцветные шлюпки помчали их по водам гавани, и вскоре они вновь собрались все вместе в большом отеле, где закрытые жалюзи преграждали доступ солнцу, а каменные плиты, которыми были вымощены полы, высокие потолочные своды и длинные гулкие коридоры умеряли нестерпимую жару. Там в парадной зале накрыт был парадный стол, поражавший глаз изобилием и великолепием; и все невзгоды карантина показались вскорости далекими и ничтожными среди изысканных закусок, прохладных напитков, заморских фруктов, цветов из Генуи, снега с горных вершин и радужных переливов света в зеркалах.