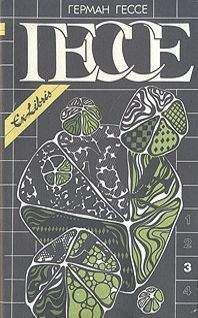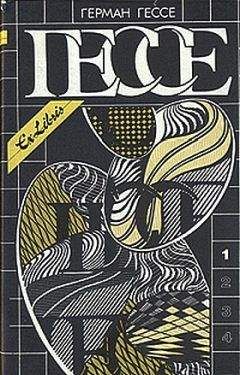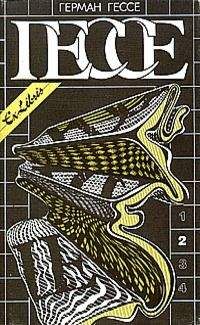В действительности Нарцисс прекрасно знал, что представлял собой его друг, он не мог не замечать ни его цветущей красоты, ни его естественной силы жизни и яркой полноты чувств. И он ни в коей мере не был наставником, который хотел питать пылкую юную душу греческим, отвечать на невинную любовь логикой. Слишком сильно любил он белокурого юношу, а для него это было опасно, потому что любовь была для него не естественным состоянием, а чудом. Он не смел влюбляться, не смел пользоваться приятным созерцанием этих красивых глаз, близостью этого цветущего, светлого белокурого создания, не смел позволить этой любви хотя бы на мгновение задержаться на уровне чувственного. Потому что если Гольдмунд считал себя предназначенным быть монахом и аскетом и всю жизнь стремиться к святости, Нарцисс действительно был предназначен для такой жизни. Ему была позволена любовь только в единственной, высшей форме. В предназначение же Гольдмунда к жизни аскета Нарцисс не верил. Яснее, чем кто-либо другой, он умел читать в душах людей, а тут, когда он любил, он читал с особой ясностью. Он видел сущность Гольдмунда, которую глубоко понимал, несмотря на противоположность их натур. Он видел эту сущность, покрытую твердым панцирем фантазий, ошибок в воспитании, слов отца, и давно разгадал несложную тайну этой молодой жизни. Его задача была ему ясна: раскрыть эту тайну самому ее носителю, освободить его от панциря, вернуть его собственной природе. Это будет нелегко, но самое трудное в том, что из-за этого он, возможно, потеряет друга.
Бесконечно медленно приближался он к цели. Месяцы прошли, прежде чем стало возможно первое наступление, серьезный разговор между обоими. Так далеки были они друг от друга, несмотря на дружбу, так велико было разделявшее их расстояние. Зрячий и слепой, так и шли они рядом, и то, что слепой ничего не знал о своей слепоте, лишь облегчало его участь.
Первым пробил брешь Нарцисс, постаравшийся разузнать о том переживании, которое подтолкнуло к нему в трудную минуту потрясенного мальчика. Сделать это оказалось легче, чем он предполагал. Давно уже чувствовал Гольдмунд потребность исповедаться в переживаниях той ночи; однако никому, кроме настоятеля, он не доверял вполне, а настоятель не был его духовником. Когда же Нарцисс как-то в подходящий момент напомнил другу о начале их союза и осторожно коснулся тайны, тот без обиняков сказал:
— Жаль, что ты еще не рукоположен и не можешь выслушивать исповеди, я охотно освободился бы от того потрясения, исповедовавшись и искупив наказанием свою вину. Но своему духовнику я не могу это рассказать.
Осторожно, не без хитрости продвигался Нарцисс дальше по найденному следу.
— Помнишь, — осторожно завел он разговор, — то утро, когда ты вроде бы заболел. Ты ведь не забыл его, тогда мы стали друзьями. Я часто думал о нем. Может быть, ты и не заметил, что я чувствовал себя совершенно беспомощным.
— Ты — беспомощным? — воскликнул друг недоверчиво. — Но ведь беспомощным был я! Ведь это я не был в состоянии вымолвить ни слова и в конце концов расплакался, как ребенок! Фу, до сих пор стыдно! Я думал, что никогда больше не смогу смотреть тебе в глаза. Ты видел меня таким жалким, таким слабым!
Нарцисс продолжал нащупывать дальше.
— Я понимаю, — сказал он, — что тебе это было неприятно. Такой крепкий и смелый парень, как ты, и вдруг плачет перед посторонним человеком, да еще учителем, тебе это действительно не пристало. Ну, тогда-то я счел тебя больным. А уж если бьет лихорадка, то сам Аристотель поведет себя странно. Но оказалось, что ты вовсе не болен! Не было никакой лихорадки! И поэтому-то ты и стыдился. Никто ведь не стыдится, что его треплет лихорадка, не так ли? Ты стыдился, потому что не смог противиться чему-то другому. Что-то другое потрясло тебя. Произошло что-нибудь особенное?
Гольдмунд немного поколебался, затем медленно произнес:
— Да, произошло нечто особенное. Позволь считать тебя моим духовником, нужно же когда-нибудь об этом сказать.
С опущенной головой он рассказал другу историю той ночи.
В ответ на это Нарцисс, улыбаясь, сказал:
— Ну конечно, «ходить в деревню» запрещено. Но ведь многое из запрещенного можно делать, а затем посмеиваться над этим или же исповедаться — и дело с концом, все позади. Почему же и ты не мог совершить маленькую глупость, как это делает чуть ли не каждый ученик? Разве это так уж дурно?
Гольдмунд не мог сдержать свой гнев.
— Ты говоришь действительно как школьный учитель! — вспылил он. — Ты ведь прекрасно знаешь, о чем идет речь! Разумеется, я не вижу большого греха в том, чтобы разок нарушить правила и принять участие в мальчишеской проделке, хотя это, пожалуй, и нельзя считать достойной подготовкой к монашеской жизни.
— Постой! — воскликнул Нарцисс резко. — Разве ты не знаешь, друг, что для многих благочестивых отцов именно такая подготовка была необходима? Не знаешь, что один из самых коротких путей к святой жизни — как раз жизнь распутника?
— Ах, оставь! — возразил Гольдмунд. — Я хотел сказать: не легкое непослушание тяготило мою совесть. Это было нечто другое. Это была девушка. Это было чувство, которое я не могу тебе описать! Чувство, что, если я поддамся соблазну, если только протяну руку, чтобы коснуться девушки, я уже никогда больше не смогу вернуться назад. Что грех, как адская бездна, поглотит меня и никогда не отпустит. Что с этим кончатся все прекрасные мечты, все добродетели, вся любовь к Богу и добру.
Нарцисс кивнул в глубокой задумчивости.
— Любовь к Богу, — сказал он медленно, подыскивая слова, — и любовь к добру не всегда едины. Ах, если бы это было так просто! Что хорошо, мы знаем из заповедей. Но Бог не только в заповедях, пойми, они лишь малая часть Его. Ты можешь исполнять заповеди и быть далеко от Бога.
— Неужели ты меня не понимаешь! — жалобно воскликнул Гольдмунд.
— Конечно, я понимаю тебя. Женщина, пол связываются у тебя с понятием мирской жизни и греха. На все другие грехи, как тебе кажется, ты или неспособен, или, если даже совершишь их, они не будут настолько угнетать тебя, в них можно исповедаться и освободиться от них. Только от одного этого греха не освободишься.
— Правильно, именно так я чувствую.
— Как видишь, я тебя понимаю. Да ты не так уж и не прав; по-видимому, история о Еве и змие вовсе не плод досужего вымысла. И все-таки ты не прав, дорогой. Ты был бы прав, если бы был настоятелем Даниилом или Хризостомом[2], твоим святым, если бы ты был епископом, или священником, или даже всего лишь простым монахом. Но ведь ты не являешься ни одним из них. Ты ученик, и если даже желаешь навсегда остаться в монастыре или это желает за тебя отец, то ведь обета ты еще не дал, посвящения не получил. И если сегодня или завтра тебя совратит красивая девушка и ты поддашься искушению, то не нарушишь никакой клятвы, никакого обета.
— Никакого писаного обета! — воскликнул Гольдмунд в большом волнении. — Но неписаный, самый святой, который ношу в себе, будет нарушен! Неужели ты не видишь: то, что годится для многих других, не годится для меня? Ведь ты сам тоже еще не получил посвящения, не дал обета, но ведь ты никогда не позволишь себе коснуться женщины! Или я ошибаюсь? Ты не таков? Ты совсем не тот, за кого я тебя принимаю? Разве ты не дал себе клятву, хотя и не словами и не перед вышестоящими, a в сердце, и разве не чувствуешь себя из-за нее навеки обязанным? Разве мы с тобою не едины?
— Нет, Гольдмунд, не едины, я не таков, каким ты меня видишь. Правда, и я принял молчаливый обет, в этом ты прав. Но мы с тобою совсем не едины. Я скажу тебе сегодня кое-что, а ты подумай. Вот что я скажу тебе: наша дружба вообще не имеет никакой другой цели и никакого другого смысла, кроме как показать тебе, насколько ты не похож на меня.
Гольдмунд стоял пораженный: Нарцисс говорил с таким видом и таким тоном, что возражать ему было нельзя. Но почему Нарцисс произносит такие слова? Почему молчаливый обет Нарцисса был более свят, чем у него, Гольдмунда? Принимал ли Нарцисс его вообще всерьез, не считал ли всего лишь ребенком? Новые замешательства и трудности приносила эта странная дружба.
Нарцисс больше не сомневался в природе тайны Гольдмунда. За этим стояла Ева, праматерь[3]. Но как же могло получиться, что в таком красивом, здоровом, таком цветущем юноше пробуждающийся пол встретил столь ожесточенную вражду? Должно быть, тут действовал дьявол, тайный враг, которому удалось разъединить изнутри этого человека и раздвоить его изначальные влечения. Итак, дьявола нужно найти, обнаружить и изгнать, тогда он будет побежден.
Между тем товарищи все больше и больше избегали Гольдмунда и оставляли его, или, вернее, они чувствовали, что он оставлял их и в какой-то мере им изменял. Никому не нравилась его дружба с Нарциссом. Злые ославили ее противоестественной, именно те, кто сам был влюблен в одного из обоих юношей. Но и другие, убежденные, что здесь нет ничего порочного, качали головами. Никто не желал, чтобы эти двое были вместе, этот союз, казалось, отделял их, как высокомерных аристократов, от остальных, бывших для них недостаточно хорошими; это было не по-товарищески, это было не по-монастырски, это было не по-христиански.