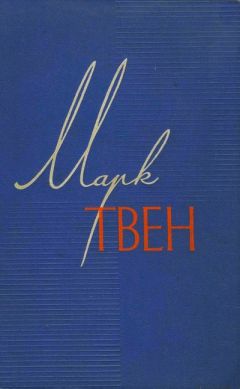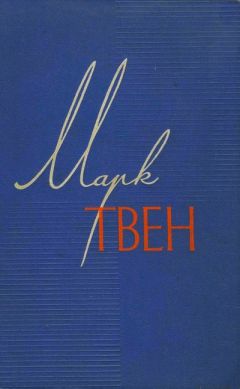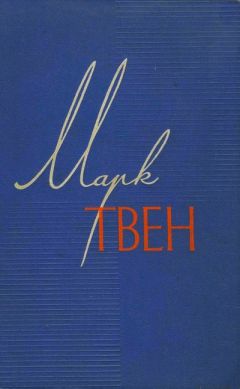Твен говорит о средневековой Англии. Но в книге возникают образы жертв собственнических законов, которые заставляют читателя возненавидеть феодальные порядки, а вместе е тем и всякое угнетение слабого сильным. Более того, писатель создает образ представителя низов, который хочет, чтобы жизнь была иной, и, при всей своей неучености, в состоянии управлять государством более гуманно, чем «прирожденные правители».
Положительный герой, возникающий теперь в произведениях Твена, это прежде всего ребенок. Однако душевное благородство обоих Томов — слепок с того высокого, что писатель ощущал в народе.
И нищий, и принц — это в основном хорошие люди. Но добрый принц, показывает Твен, уже отчасти испорчен властью. И даже любимец писателя Том Кенти, в котором воплощены лучшие черты народа, после недолгого пребывания на королевском посту неожиданно проявляет отрицательные свойства. «Королевское звание все больше нравилось ему», — замечает Твен. Том увеличивает количество слуг при дворе и содрогается при мысли о встрече со своими родными, пребывающими в нищете. Так кое-где в повести начинает звучать — правда, еще весьма приглушенно — тема морального упадка рядового человека, трагическая тема, разработке которой писатель в дальнейшем посвятит немало душевных сил.
На рубеже следующего, третьего периода творчества Твена стоит небольшое, но сложное произведение — речь под названием «Плимутский камень н отцы-пилигримы››. Писатель произнес ее на банкете Общества Новой Англии в начале 80-х годов.
С самого начала речь звучит оскорбительно для слушателей. Обращаясь к потомкам «отцов-пилигримов››, высадившихся в Америке зимой 1620 года и основавших одну из первых колоний, оратор говорит, что собравшиеся джентльмены не обладают выдающимися умственными способностями, выражает сомнение в том, что в зале найдутся люди, избежавшие отсидки в тюрьме, и т. д. Сколь ни странным это покажется, подобные декларации сами по себе не должны были вызвать у слушателей протеста. Они воспринимались не как сатира, а как своеобразный юмор. «Деловым людям», собравшимся на банкете, не были в диковинку выпады такого характера, и они вызывали смех. К тому же Твен закончил свою речь замечанием, что все сказанное было шуткой.
Но действительно ли это так? После острот, в известной мере построенных на комической путанице понятий, Твен противопоставил себя — «грубияна» из штата Миссури — потомкам пилигримов. Эти пилигримы пользуются славой создателей американских идеалов. «Но где же мои предки?» — восклицает оратор. Нет, он духовный наследник не пилигримов, а индейцев, которых уничтожали предки сидящих перед ним джентльменов, он — наследник инаковерующих, коих пилигримы лишали жизни за отказ принадлежать к «ортодоксальной пуританской церкви», «салемских ведьм», то есть ни в чем не повинных женщин, которых руководители пуританских общин сжигали на кострах, негров, коих основатели американских колоний увозили из Африки, превращая в рабов.
Хваленые пилигримы — столпы «сверхчеловеческой нравственности» — на самом деле, говорит Твен, были разбойниками. Оказывается, что кровавые преступления, бесчеловечное обращение с людьми — отнюдь не монополия правителей средневековой Англии. Твен как бы перебрасывает мост от Европы к Америке, а одновременно и от прошлого к тому настоящему, которое представляли собравшиеся на банкете не очень-то симпатичные оратору господа.
Весной 1882 года Твен совершил поездку, которая заставила его особенно глубоко задуматься над прошлым и над современностью. Решив превратить «Старые времена на Миссисипи» в толстую книгу, Твен отправился собирать новый материал о родной реке. Перед ним предстали места, где прошли его детство и юность, места, воспетые в «Приключениях Тома Сойера». И он был потрясен увиденным. Жизнь, почувствовал писатель, стала иной, чем раньше, — серой, прозаичной. На всей второй части «Жизни на Миссисипи» (1883) лежит печать усталости, какого-то уныния, противоречащего бодрым словам о «чудесном путешествии», которое проделал Твен. Как раз в год выхода этой книги юморист, заставлявший смеяться всю Америку, занес на бумагу такие слова: «Человек, который делается пессимистом до сорока восьми лет, знает слишком много; тот, кто оптимист после сорока восьми лет, знает слишком мало». Дело было, конечно, не только в том, что теперь Твен лучше узнал жизнь. Изменилась и сама американская действительность.
В своей статье «Статистика и социология» Ленин говорит, имея в виду Соединенные Штаты, о переходе «от прогрессивного, домонополистического, капитализма 1860-1870-х годов к реакционному, монополистическому капитализму (империализму) новейшей эпохи…»[2]
В 80-х годах ощущение, что монополии захватывают в США господство как в экономической, так и в политической сфере, начало проникать в самые различные слои народа. Власть трестов самым непосредственным образом оказывалась на судьбе жестоко эксплуатируемых рабочих, а также разоряемых фермеров, лавочников, ремесленников. Иные буржуазные политики, желая извлечь выгоду для себя из страданий народа, стали рядиться в тогу противников монополий. Так, президент Кливленд в конце 80-х годов счел нужным демагогически выступить с осуждением «трестов, комбинатов, монополий», которые, как он сказал, «железной пятой» уничтожают простых граждан страны и «быстро становятся властителями».
В «Жизни на Миссисипи» Твен упоминает книгу, над которой он урывками работал в течение ряда лет. «Может быть, я кончу ее, — говорит писатель, — еще лет через пять-шесть». Речь идет о романе «Приключения Гекльберри Финна»; он вышел в свет через год-два после «Жизни на Миссисипи». Впечатления, которые вынес Твен из поездки по родным местам, помогли ему быстро довести до конца это величайшее произведение американского реализма XIX столетия.
Как уже отмечалось, творчеству Марка Твена принадлежит выдающееся место в истории развития критического реализма в Америке. «Приключения Гекльберри Финна» — самый зрелый реалистический роман писателя.
На протяжении всей первой половины XIX века в американской литературе господствовал романтизм. Наиболее видные его представители — Ирвинг, Брайент, Купер, По, Готорн, Мелвилл, Торо — создавали книги, в которых в сложной, опосредствованной форме оказывалось разочарование в буржуазном прогрессе.
Впрочем, уже тогда черты реализма наличествовали в творчестве отдельных писателей, и прежде всего Купера, правдиво показавшего, как уничтожали индейцев буржуазная цивилизация.
Новые явления в литературе США возникли в связи с подъемом антирабовладельческого движения, которое получило большой размах с конца 40~х годов. Пафос аболиционизма придал жизненность и силу произведениям ряда талантливых прозаиков и поэтов, появившихся в середине века. В числе их были столь разные художники слова, как Гарриет Бичер-Стоу, Уолт Уитмен, Джеймс Лоуэлл и Джон Уитьер. И примечательно, что в творчестве этих, а также и многих других писателей, так или иначе связанных с антирабовладельческой борьбой, реалистическое начало стало выдвигаться на передний план.
Марк Твен и другие писатели, которые создавали в Америке последней трети XIX столетия литературу критического реализма, явились непосредственными преемниками мастеров аболиционистской прозы и поэзии. В известной мере они развивали также антибуржуазные и утопические тенденции американского романтизма.
Твена порой изображают чуть ли не единственным реалистом, появившимся за океаном в 70-80-х годах прошлого века. Лучшие книги Турже, де Фореста, Джеймса, Гоуэлса, Хоу, Гарленда и других прозаиков, с волнением присматривавшихся к тому новому, что возникало в США после Гражданской войны, показывают, что это было не так.
Американским писателям-реалистам нелегко было утверждать свое право на изображение жизни такой, как она есть. На книжном рынке США в послевоенные десятилетия царили модные беллетристы, видевшие в литературе лишь средство развлечения читателей и пропаганды достоинств буржуазной Америки, идеалов реакционнейших ее представителей. В начале 80-х годов известный писатель Т. Олдрич и видный политический деятель Д. Гей выступили с романами, в которых описывались «зловредные» иностранцы, ведущие в Америке революционную агитацию среди наемных рабочих.
Условности господствовавшего в США буржуазного романа с характерными для него неправдоподобными неожиданностями, узким дидактизмом, налетом сентиментальности и неизбежным «счастливым концом» нередко давали себя знать и в серьезной литературе тех лет. Но по основному направлению своего творчества писатели реалистического склада были антагонистами буржуазных литераторов, апологетически воспринимавших американскую капиталистическую действительность.