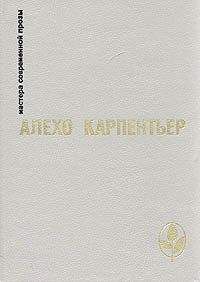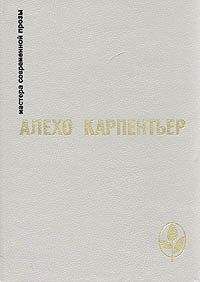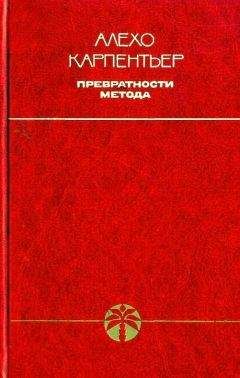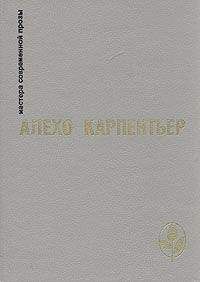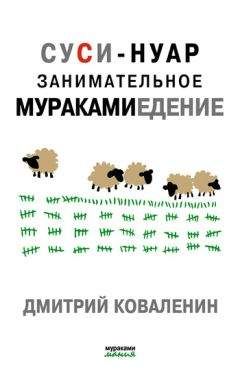Облавы на Макандаля затевались все реже и велись весьма нерадиво, с передышками, во время которых люди бражничали либо дремали в тени под деревьями. Прошло несколько месяцев, но вестей об одноруком не было. Иные полагали, что он скрывается далеко от побережья, в затянутых облаками кряжах Центрального плато, где негры пляшут фанданго под стук кастаньет. Другие возражали, что унган уплыл на шхуне и теперь занимается своим делом в краю Жакмель, куда часто попадают люди после смерти и где они обречены возделывать землю, пока им не удастся вкусить соли [54]. Как бы то ни было, негры вели себя с вызывающей веселостью. Невольники, которые должны были задавать темп во время обмолота кукурузы или рубки сахарного тростника, никогда еще не били в барабаны с таким упоением. По вечерам в своих лачугах и хижинах негры с великим ликованием передавали друг другу диковинные вести: на крыше табачной сушильни грела спину на припеке зеленая игуана; кто-то видел, как средь бела дня пролетел ночной мотылек; большой взъерошенный пес промчался во всю прыть по господскому дому и утащил олений окорок; на задний двор залетел пеликан, – а ведь от моря до этих мест неблизко, – сел на беседку, увитую виноградной лозой, и затряс крыльями так, что посыпались вши-пухоеды.
Все знали, что зеленая игуана, ночной мотылек, приблудная собака, удивительный пеликан – всего лишь обличья. Одаренный властью превращаться в зверя, в птицу, в рыбу и в насекомое, Макандаль то и дело наведывался в поместья Равнины, приглядывал за своими приверженцами, проверял, ждут ли они еще его возвращения. В непрерывной смене обличий однорукий становился вездесущим и, переходя в тела животных, вновь обретал целостность членов вопреки своему увечью. Сегодня у него были крылья, завтра плавники, он то мчался галопом, то полз на брюхе, ему принадлежали потоки подземных вод, и прибрежные пещеры, и вершины деревьев – он был владыкой всего острова. Власть его отныне была безгранична. Он мог покрыть кобылу, мог плескаться в прохладном водоеме, опуститься на тонкую ветку акации, влететь в дом сквозь замочную скважину. Псы на него не лаяли, своей тенью он распоряжался как хотел. По его прихоти у одной негритянки народился мальчик с кабаньей головой. В ночную пору Макандаль обычно являлся на дорогах в обличье черного козла; рога козла унизаны были раскаленными угольками. Придет день, когда по знаку мандинги начнется великое восстание, и Властители Иного мира, предводимые Дамбалла, и Хозяином Дорог [55], и Огуном, Господином Железа [56], пошлют громы и молнии и обрушат на остров бурю, которая довершит дело, начатое людьми. В тот великий час, говорил Ти Ноэль, кровь белых потечет ручьями и лоа, охмелев от восторга, припадут к тем ручьям и будут пить, пока не напьются вволю.
Четыре года длилось напряженное ожидание; не теряя надежды, рабы настороженно вслушивались, ибо в любой миг мог прозвучать с гор трубный зов больших раковин, возвещая, что Макандаль прошел до конца путь превращений и снова, поджарый и крепкий, стоит, гордясь мужской силой, на своих человечьих ногах.
На некоторое время прачка Маринетта вернулась в господскую опочивальню, но вскоре мосье Ленорман де Мези вступил в брак вторично, женившись на одной вдове, богатой, хромой и богобоязненной, с которой свел его священник из Лимонада. По сей причине, когда наступил декабрь и задули северные ветры, домашняя челядь, повинуясь мановениям хозяйкиной клюки, принялась расставлять прованские статуэтки святых вокруг грота из папье-маше, от которого все еще пахло непросохшим клеем, – этот грот хозяйка собиралась выставить к рождеству под навесом одного из парадных входов с колоннадой и осветить свечами. Столяр Туссен выточил из дерева царей-волхвов, но они оказались слишком большими по сравнению со всеми остальными фигурками, их было никак не приладить, и к тому же глаза у Валтасара получились жутковатые: белые глазные яблоки – Туссен специально их подкрасил – таращились из тьмы черного дерева, страшные и выкаченные, словно белки удавленника. Ти Ноэль и прочие рабы мосье Ленормана де Мези наблюдали за тем, как продвигается сооружение рождественских яслей, памятуя, что близится время подарков и торжественных месс, время, когда хозяева будут сами ездить в гости и принимать гостей, так что рабам заживется вольготнее и нетрудно будет стянуть свиное ухо на кухне, приложиться к крану винной бочки либо прокрасться ночью в барак к негритянкам из Анголы, которых недавно купили и которых хозяин собирался отведать только после праздников, как подобает доброму христианину. Впрочем, Ти Ноэль знал, что в этом году не увидит, как зажгутся свечи, украшающие грот, и заблестит сусальное золото. Он собрался отлучиться в эту ночь, отправиться в дальнее поместье Дюфрене, рабы которого будут праздновать рождение первого сына в господском доме и получат по чарке испанской водки на брата.
Roule, roulе, Congoa, roulе!
Roule, roulе, Congoa, roulе!
Roule, roulе, Congoa, roulе!
A for ti fille ya dansе congo ya-ya-rо! [57]
Более двух часов гремели барабаны при свете факелов, и женщины, поводя плечами, без конца имитировали движения прачки, полощущей белье, когда от неожиданности голоса поющих на мгновение дрогнули. За Главным Барабаном возник Макандаль в своем прежнем виде. Мандинга. Человек. Однорукий. Макандаль Возвратившийся. Макандаль Долгожданный. Никто его не приветствовал, но все взгляды встретились с его взглядом. И замелькали чарки с водкой, переходя из рук в руки на пути к единственной руке мандинги, ибо каждый понимал, что унгана томит великая жажда. Ти Ноэль видел его впервые после всех его превращений. Казалось, в облике однорукого осталось что-то от его таинственных странствований из тела в тело, от той поры, когда его облегала чешуя, щетина либо руно. В очертаниях заостренного подбородка было что-то кошачье, а уголки глаз немного приподнимались к вискам, как у птиц, в обличье которых он побывал. Женщины хороводом проплывали перед Макандалем, удаляясь и возвращаясь, и тела их изгибались в пляске. Но воздух полнило такое множество немых вопросов, что внезапно, без всякого сговора, голоса слились в гимн «янвалу», жалобным воплем вознесшийся к небу под торжественную дробь барабанов. Четыре года ждали они, и гимн напоминал о бессчетных муках:
Yenvalo moin, Papa!
Moin pas mange q'm bambо!
Yanvafou, Papa, yanvalou moin!
Ou vlai moin lavе chaudier?
Yenvalo moin! [58]
До каких пор мне скрести котлы? До каких пор мне жевать бамбук? Вопросы рвались словно из самого нутра, перебивали друг друга, и в хоре голосов слышался надрывный стон, испокон веков звучавший в напевах племен, угнанных на чужбину и обреченных воздвигать там мавзолеи, башни либо бесконечные стены. Отче, о мой отче, нет дороге конца! Отче, о мой отче, нет мукам конца! Всецело отдавшись жалобам, Ти Ноэль позабыл, что у белых тоже есть уши. А уши у белых были, и потому в это самое время во дворе перед господским домом мужчины семейства Дюфрене прилежно заряжали все мушкеты, мушкетоны и пистолеты, которые украшали прежде ковры на стенах гостиной. А для вящей надежности был припасен целый арсенал дубинок, ножей и рапир, переданный в распоряжение женщин, которые уже творили молитвы и обеты, прося бога о пленении мандинги.
В один из понедельников января незадолго до рассвета первые партии рабов из поместий Северной равнины вступили в Кап-Франсэ. Впереди верхами ехали хозяева и управляющие, по бокам шли стражники, вооружившиеся, как перед боем, и черная масса медленно заполняла Городскую площадь под торжественную дробь армейских барабанов. Несколько солдат складывали охапки поленьев у подножия столба из кебрачо, в то время как другие раздували угли, тлеющие на жаровне. На паперти Кафедрального собора под траурным пологом, натянутым на жерди и поперечные брусья, в высоких красных креслах восседали члены капитула, а также сам губернатор, королевские судьи и должностные лица. Балконы пестрели легкими зонтиками, зонтики колыхались, яркие и беспечные, словно цветы, выставленные на подоконник. Дамы в митенках и с веерами громко переговаривались, словно из разных лож обширного театра, и голоса их от волнения очаровательно вздрагивали. Обитатели домов, выходивших окнами на площадь, заранее велели приготовить для своих гостей прохладительные напитки – лимонад и оршад. Внизу толпа все прибывала; обливаясь потом, невольники ждали, когда начнется зрелище, задуманное специально для них, парадное представление для черных, которое белые люди обставили весьма пышно, не пожалев затрат. Ибо на сей раз учить уму-разуму собирались не розгами, а огнем, и нужно было, чтобы рабам навсегда запомнилась иллюминация, которая обошлась весьма недешево.
Внезапно все веера разом закрылись. Грохот барабанов сменился глубокой тишиной. Обнаженный до пояса, в полосатых штанах, стянутый и опутанный веревками, блестя незапекшейся кровью свежих ран, к столбу, высившемуся посреди площади, шел Макандаль. Хозяева испытующе поглядели на рабов. Но лица последних являли возмутительное равнодушие. Что понимают белые в делах негров? Во время своих превращений Макандаль не раз проникал в таинственный мир насекомых, и тогда взамен утраченной руки у него отрастали членистые лапки, жесткие надкрылья и перепончатые крылья либо длинные усики. Он был мухой, сороконожкой, пяденицей, термитом, тарантулом, божьей коровкой и даже крупным зеленоватым светляком. В решающий момент мандинга станет невидим – путы, которыми прикрутят его к столбу, мгновение будут сжимать воздух, храня очертания исчезнувшего тела, а затем, скользнув вдоль столба, падут к его подножию. Сам же Макандаль, обратившись в тонкоголосого комара, сядет прямо на треуголку самого начальника гарнизона, чтобы вдоволь натешиться смятением белых. Хозяева не знали, что так будет, потому и истратили кучу денег на бесполезное представление, которое докажет, что им не под силу тягаться с помазанником великих Лоа.